Федор ли повернул коня, сам ли конь, очумевший, как и его хозяин, был увлечен встречным потоком, но теперь Федор скакал уже в обратном направлении.
К короткой молчаливой схватке, которая произошла между столкнувшимися передними рядами баварской конницы и подоспевшими на выручку казаками 18-го полка, Федор не успел. Он видел только впереди себя невообразимое месиво из людей и коней: сползали с седел баварцы, сползали казаки, метались без всадников кони. На Федора едва не наскочила обезумевшая лошадь, несшая рослого, неестественно согнутого в седле баварца. Тот носом уткнулся в гриву, намертво обнял шею лошади и все еще держался в седле, но одна нога, обутая в сапог, уже безжизненно болталась, и о кованый каблук его глухо позвякивало стремя. На том месте, где у баварца была щека, кровоточил кусок мяса и торчала отесанная кость.
Баварская конница была смята. Отдельные, вразброд уходившие всадники настигались казаками и под взблесками их шашек никли.
Вдруг Федор почувствовал, что в воздухе появился какой-то странный шум, похожий на тот, который производит летящая над головой стая скворцов; затем из этого шума стали выделяться тонкие, пронзительные высвисты, отчего голова сама по себе начинала клониться все ниже, и наконец донеслось неумолкаемое, трескучее: трррр… та-та-та… Трах, трах… трррр… Отрывистый клекот многих пулеметов, и залпы, залпы вперебой. Залегшая пехота противника открыла сокрушительный огонь.
Кони начали кувырком падать. Летели с седел казаки. Ливень свинца все усиливался. В какую-нибудь минуту передние ряды легли наповал. Меринок под Федором вдруг споткнулся, упал на колени и, поджимая голову, медленно рухнул. Изо рта его клубками — розовая пузырчатая пена. Федор, ничего не соображая, выдернул прижатую ногу и вскочил. Вокруг него разноголосо пели и посвистывали пули. Одна щелкнула о камень, лежавший под его ногами, и басовито зажужжала в рикошете. Федор непроизвольно бросился на землю. Он лежал на пологом холмике, прятал за камень лицо и не чувствовал, как из-под разрезанной на плече гимнастерки сочится кровь. Бессмысленный взгляд его шарил по рябому ноздреватому боку голыша, покрытому старой паутиной…
Но вот Федору показалось, что залпы становятся слабее, неувереннее, пулеметы умолкают. Сквозь жидкую трескотню выстрелов прорвалось протяжное, завывающее: ра-а-а!.. а-а-а!.. И — тишина. Федор выглянул из-за камня: по всему полю врассыпную бежали люди в шинелях, кучками, в одиночку; кое-где он видел людей с поднятыми руками. Над толпами плененных пехотинцев дыбились кони (после Федор узнал, что это были полки 3-й кавалерийской дивизии, ударившие по флангу и тылу).
Все было кончено.
Федор, морщась от боли в плече и колене, которое ушиб при падении с коня, вяло поднялся, бледный, растрепанный. Гимнастерка на нем перекосилась и с одной стороны выбилась из-под пояса. Шашка торчала за спиной. Покачиваясь на непослушных ногах, Федор долго тер ладонью дергавшуюся бровь. Перед ним лежало бурое унылое поле, сплошь устланное трупами. Солнечные лучи сквозь облака, забинтовавшие небо, сочились скупо. Бились и хрипели в предсмертных судорогах кони. Стонали люди. Кое-где маячили уцелевшие, как и Федор, казаки. Неподалеку с опущенной головой, пошатываясь, ходила лошадь. Грудь ее, продырявленная, видно, не одной пулей, была вся в кусках запекшейся крови. Тут же ничком без фуражки лежал казак, вытянувшись во весь рост. Одна рука его со скрюченными пальцами упиралась в лампасину, другая отброшена вперед — рукав гимнастерки по локоть засучился; под сапогом мерцала шашка. Федоров меринок все еще дрыгал ногами, пытался привстать. По телу его волнами пробегала судорога, и короткая светло-рыжая шерсть на нем лоснилась. Широко открытый глаз его с мольбой и недоумением был устремлен на хозяина.
Федор будто очнулся ото сна, и в груди его закипело. Он подошел к меринку, опустился на колени и поцеловал его в бархатистую, объятую дрожью переносицу. Потом, глухо стоная, упал на чужую неласковую землю, и плечи его затряслись. Из-под разреза гимнастерки соскользнула исчерна-розовая загустевшая капелька крови и долго, не впитываясь, краснела на солончаке.
Напрасно бабка Морозиха, угождая внучке, истоптала по кочкам свои единственные праздничные гамбургского товара штиблеты, которые тридцать лет по годовым праздникам украшали ее ноги. Она все бегала тайком то к Березовой Лукерье — пошептаться с ней о предстоящем «деле», уговорить ее быть с внучкой помягче, пообходительней; то к сватам Абанкиным, к Наде — наставить неопытную внучку на ум, подтолкнуть ее на ту тропку, по которой она должна пройти, чтоб избавиться от вековечного позора. Все ее хлопоты пропали даром: советов бабки Надя не хотела слушать.
Читать дальше




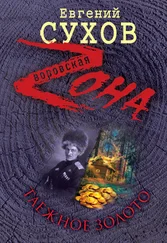





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
