— Я не могу-у этого захотеть, сестра! — с каким-то стенанием перебил ее Пашка, задвигав и руками и плечами. — Это же не по семейному делу… Если б, положим, тебя Трофим обидел, я бы голову ему оторвал. А тут не могу! Я же говорил вам с Федором. Что же еще… Что вы от меня требуете? Не могу! Кадеты — к себе, ревком — к себе… А мне все они… Да пошли они все!.. — Пашка, задохнувшись, длинно-предлинно выругался, грубо, дико, чего раньше при сестре никогда не делал.
Она отшатнулась от него на шаг, слушая его тяжелое, всхлипывающее дыхание и ужасаясь никогда не слыханным интонациям его голоса. И трудно ей было понять, что эти истошные интонации выражали: проклятие или мольбу. Но и в том и в другом случае в них слышалось прежде всего бессилие.
С плаца снова донеслись невнятные голоса. Где-то в конце хутора, в направлении Хомутовки дробно застучали ходовые колеса. Надя, настораживаясь, повернула голову: желтых точек в улице стало уже меньше. Вверху косяками мчались дымчатые клубящиеся облака, сгоняемые ветром в один большущий табун. Там, где небо было чистым, помаргивали неяркие, отуманенные звезды.
— Дай коня… — тихо, с еле заметной дрожью в голосе, но твердо, очень твердо попросила Надя. — Помоги хоть этим. На твоем коне мне легче… Я уж привыкла к нему, и он ко мне. А Федорова строевого — не знаю, куда они его дели.
Пашка молча постоял, пораженный таким сумасбродством. Но отговаривать не решился. Да и можно ли это было делать! Уж кто-кто, а он-то, Пашка, знал свою сестру. Упавшим голосом покорно сказал:
— Конь — он мой и твой. Эх, сестра, сестра! — и, сокрушенно вздохнул. — Не было печали, так… Мне недолго, я заседлаю, что ж! Дело твое. Я не указчик. Езжай. Только, смотри, полевыми дорогами. И осторожней, не потони в балках. Шляхом — ни в коем разе!
Он вздохнул еще глубже.
— Сейчас, что ли, заседлать?.. Ну, так делай, что тебе… и приходи. Отца не бойся, не увидит.
Ушел, тяжело ступая, задевая за кочки подошвами. А Надя на короткое время заглянула в хату и поспешила вслед за ним. Правая рука ее была засунута в карман шинели. Запястье этой тонкой руки облегал темляк казачьей плети, а узкую ладонь грел теплый металл браунинга — того личного оружия, которым обзавелась Надя в бытность свою на фронте.
В пустом бревенчатом, на юру, амбаре, добротном, под листовым цинком, гуляли сквозняки: саманная обмазка почти вся осыпалась, и в щели дул ветер. До войны в этом амбаре, принадлежавшем лавочнику, торговали черной бакалеей: керосином, дегтем, краской, всякими маслами — и деревянный пол его и низ стен были навек всем этим пропитаны.
Федюнин, постукивая зубами, жался в угол, вытягивал по́лы ватника, подтыкал их под себя. А они, эти проклятые пОлы, были такими короткими, чего раньше Федюнин не замечал, что и до колен не доставали. Локтем он опирался о свою вербовую ногу — сидеть она мешала, и он отвязал ее. Сквозняки кружились больше всего посреди амбара, а в углу было ничего, терпимо.
Еще вечером, когда Федюнина только что начинал пробирать цыганский пот, он поколотил вербовкой о дверь, окликнул полицейского, который, развалившись на ступеньке, бубнил и высвистывал свою всегдашнюю неизменную песенку: «Сухой бы я корочкой питалась», и попросил его послать кого-нибудь к нему, Федюнину, на дом за тулупом.
— Что? Тулуп тебе? А перин с подушками не надо? — насмешливо сказал полицейский. — Может, и милашек прикажете, господин товарищ председатель!
Федор холода пока еще не чувствовал. Ему скорее было жарко, чем холодно, хотя одет он был не теплее Федюнина. Привалившись к его плечу, глядя в аспидную темь амбара, он сидел на корточках и беспрерывно курил: высасывал цигарку и прижигал от нее очередную.
Он страшно на себя злился. И за то злился, что не смог, как он считал, выжать из своего коня лишнюю каплю прыти, не смог минутой раньше доскакать до хутора Хлебного.
— Ведь это же Блошкин и был. Он. Ей-богу! А сказать ему ничего не успел… Кадюки! — вкладывая все свое ожесточение в последнее слово, вслух подумал Федор и плотнее придвинулся к Федюнину.
Цигарка его догорала. Федор хотел было завернуть новую, чуть ли не десятую, но еще раз затянулся, пыхнул огоньком, смутно осветив свои колени, которые от конского пота были как в засохшем тесте, и бросил окурок на средину амбара. Он ощутил на языке кисло-горькую терпкость, а внутри — легкую тошноту. За весь мучительный день у него во рту маковой росинки не было! Окурок подхватили сквозняки, и в темноте амбара зигзагами замережила красноватая полоска.
Читать дальше




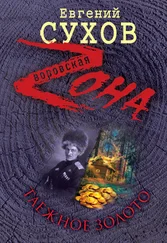





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
