— Ты тут, тетя Надя? Вот и мы! О-о-о, и темно! — обрадованно и с какою-то лихостью защебетал Мишка и прижался щекой к колючему Надиному локтю.
Она молча взглянула на брата, который остановился было в нескольких шагах, но тут же вслед за Мишкой качнулся к ней, и торопливо склонилась над племянником. Обняла его за маленькие округлые плечи — движения у нее были беспокойные, быстрые, но, как всегда, мягкие, — Притянула к себе и опять-таки торопливо, но нежно поцеловала. Поцелуй ее пришелся в горячий и влажный от пота Мишкин лоб.
— Молодец, Мишенька! — сказала она тихо и не своим обычным голосом, веселым и немножко будто бы подтрунивающим, а скорее грустным и немножко будто бы отчужденным. — Молодец! Теперь пока все, Миша. Беги в хату… Спать. Беги! — И, еще раз прикоснувшись к его разгоряченному лицу губами, нетерпеливо, но ласково подтолкнула.
Мишка хоть и без охоты, а все же послушно пошел к воротам.
Пашка выжидающе стоял, привалившись спиной плетню. Шумно вздыхал, покряхтывал, как столетний дед. Колья у ветхого плетня были уже подгнившие — плетень трещал и выгибался. Хорошо, что раина его подпирала и упасть он не мог. Лица Пашки не было видно, и Наде трудно было поверить, что рядом с ней стоял, окутанный мраком ночи, именно он, Пашка, родной ей человек. Но запах сундука, исходивший от этого человека, тот особый гниловато-пряный запах, в котором одновременно слышались и нюхательный табак, и помада, и нафталин, и бог знает что еще, всякие бабки-упокойницы снадобья — этот запах для Нади был родным, знаком с самых малых лет.
Вдруг сердце у Нади нестерпимо заныло, хотя она и предвидела «это». Ей без слов стало все ясно. Человек, привалившийся, как старик, к плетню, ее однокровный брат, который раньше ни в жизнь не дал бы ее в обиду, теперь все равно что чужой. Как бы иначе, если бы это было не так, мог он, неугомон и острослов, торчать сейчас немой тенью, вздыхать и кряхтеть! Значит, он не только уже обо всем наслышан, но и не собирался что-либо делать, никуда не спешил. И, значит, она, Надя, не зря, одеваясь по-походному и дорожа временем, рассчитывала только на себя, на свои силы.
Пашка, в свою очередь, прислушивался и присматривался к сестре с чувством скорби. Ему было жалко ее. Но что же мог он сделать! Он сразу же, как только увидел на ней не домашнюю одежду, а ту, какую привык видеть на фронте, угадал ее настроение и понял, что помочь ей ничем не может и что советы, которые он приготовил за дорогу, идя с Мишкой, будут напрасными.
А посоветовать он ей хотел было то, что считал самым разумным: пусть Федор отречется от ревкома, и тогда его, мол, выпустят. Он, Пашка, этого добьется. Грудью за него станет, и тронуть его никому не позволит. Поехали бы о ним в поле землю пахать. Эх, милое дело! Тут тебе всякая травка цветет и пахнет; и букашки ползают, греют на солнце спинки и мохнатенькие брюшки; над головой жаворонки заливаются… Плевать на всех этих кадетов, атаманов, комиссаров!
Они минуту молчали.
Ветер поднялся опять, и ветви старой огромной раины, наполовину сухой вверху, заскрипели и застонали. Откуда-то с наветренной стороны, кажется с плаца, донеслись обрывки мужских неясных голосов. И уже одно то, что голоса эти донеслись с плаца, вселяло тревогу. По дороге, над двором Парамоновых, глухо и прерывисто зашуршало, будто кто-то мимо прошел. Тут же в улице тявкнула соседская собака и, заскулив, пугливо метнулась к своему палисаднику.
Пашка хотел было закурить. Свернул цигарку, вытащил из кармана спички. Но погремел коробкой и спрятал ее обратно в карман.
— Струсил, Павел, а? — сказала Надя. Она сказала это с той беспощадностью, которая в иные минуты поднималась в ней, и так, словно бы с мучительной болью, выносила приговор самому близкому, не оправдавшему надежд человеку.
Пашка, уязвленный ее вопросом, который прозвучал слишком утвердительно и обидно, повременил с ответом.
— Это уж ты напрасно, сестра, ей-бо! — сдержанно укорил он. — Говоришь, а сама небось не веришь. Чего бы мне трусить! Тебя жалко. Только и всего.
— Жалко? Так чего же мнешься? Чего же ты отираешь плетень? — внезапно вспылив, повысила она голос и свела его на горячий трепещущий полушепот. — Надо же скакать… на крыльях… в округ. Надо добиться подмоги. Немедля! А мы стоим, плетень подпираем. Может, из наших ускакал уже кто — не знаю. Но знаю, что медлить грешно. Я… тебе известно… мне трудно сейчас… А ты… ты бы сделал. Ты бы все сделал, кабы захотел! Федор…
Читать дальше




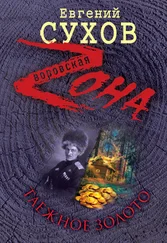





![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/books/212684/nikolaj-suhov-donskaya-povest-natashina-zhalost-p-thumb.webp)
