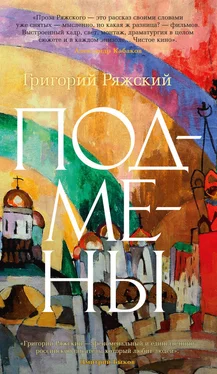Варшавчик ринулся было помощь тому оказать, как чисто русскому и потому несчастливо пострадавшему, не до конца виновному, не разобравшемуся. Всё же не своих покрывал, а чужих, инородцев. Так полицай, что ближе к нему стоял, тормознуть успел доброхота, тем же самым штыком вслед ему и ткнул. И левую кисть насквозь пробил, чтобы не дёргался, когда не просят.
После, как только вывели всех во двор, его при нас и отпустили. Евсей руку платком пережал и прочь со двора, едва ноги унёс, негодяйское отродье. А дети перепуганы, плачут: маленький Гиршик в Двойрину юбку ручками вцепился, кричит: мамочка, мама, зачем они дядю Ивана побили? Нарочка с Эзрой – те молча плакали, сцепившись руками: глядели на нас с Двойрой, будто требовали ответа, за что они с нами так: почему – мы? Мама, папочка – почему? Мы же никому плохого не делали, мы же просто музыкой занимались и математикой, отчего они с нами, как будто со злодеями какими поступают?
Евсей, тот продолжения ждать не стал, лишь коротко взглянул на нас, словно сказал мне, но только не вслух, а про себя, что вот, мол, и пришла пора, Ицхак, платить по счетам за всё хорошее, что ты со мною сотворил, явившись незвано в бекасовский оркестр и отняв у меня законную должность. Зато теперь каждый из нас будет на своём месте: тебя переселят куда положено, ну а я в оркестр вернусь, главным дирижёром, когда последняя помеха на пути у меня исчезнет. Бекасов-то, поди, Зиновий Борисыч, тоже, как и все, к великому переселению народов предназначен, так что, глядишь, свято место пусто не окажется. Наслушался, мол, по радио песен этих горделивых про „Киев не сдадим, Киев не сдадим никогда“ и отказался ехать в эвакуацию. Вот пускай теперь с вещичками вслед за вами и топает, если уже не оттопал своего.
Я тогда же и понял всё, в тот самый момент, когда он поглядел на меня, слегка исподлобья, с явно затаённой виною, но ещё и с каким-то подлым тихим торжеством, которое скрыть хорошо у него не получалось: прорвалась-таки злючим краем низость человеческая, выскользнула, не удержалась изнутри. И только уже потом, через годы долетело до меня, сколько лет Евсей Варшавчик злобу эту в себе растил, тайничал, не умея одолеть беса, что сам же когда-то в сердце своём и поселил.
Дальше окружили они нас и повели, будто лесных разбойников, по улице, подталкивая прикладами в спину. Иван – с нами: уже ясно, что пострадает теперь не меньше нашего, за неподчинение оккупационной власти и укрывательство в военное время заведомо преступного элемента. А это расстрел – листовки висели на каждом заборе. Шёл он молча, в чём был, когда его брали, – майка и домашние порты. Сжав зубы, бормотал что-то под нос, едва-едва слышно, не разобрать. Двойра раз от раза оборачивалась, смотрела на него, пытаясь взглядом выказать наше с ней горькое сожаление, что не только с нами получилось такое, но и с ним. Но насколько оно стало ужасным, мы ещё не знали, к нему нас только вели, чтобы на деле показать – что именно люди, внешне не похожие на зверей, могут придумать против других людей, таких же, как сами они, но только происхождением относящихся к другому историческому народу.
Ближе к урочищу Сырец, там, где уже начиналось кладбище, нас соединили с колонной таких же несчастных. Затем, проведя через контрольный пункт, остановили, разбили на группы по тридцать – сорок человек, после чего последовала короткая команда: „Всем раздеться! Вещи – налево, одежду – направо!“ В небе, издавая равномерно тяжёлый гул, постоянно кружили два немецких самолёта. Громко звучала парадная немецкая музыка, забивая голову и заглушая мысли. Но всё равно было слышно, как откуда-то слева, метров в ста пятидесяти от нас, доносились звуки дробных очередей, будто где-то на далёких подходах к городу шла война. Гиршик, помню, ещё дёрнул меня за руку, спросил, что, мол, папа, это уже наши наступают, „гусские“? Так и не выучился „р“ хорошо и правильно произносить. Нарочку трясло, Эзра мелко дрожал, чувствуя, что доброго ждать не приходится. Но самого оврага с нашей точки видно не было, до него было ещё сколько-то ходу. Мы – нагие: руки на паху, женщины кое-как пытаются прикрыть грудь, неловко выворачивая локти вовнутрь. Двойра стояла, прижавшись животом и грудью к моей спине, обхватив меня спереди руками. Точно так же сделала и Нарочка, обняв Эзру. Один лишь Гиршик мало чего понимал. Мы стояли в ожидании санобработки, о которой нас известили ещё на этапе. Именно так и думали, ещё не окончательно понимая, что за ней последует. А поняли, когда, нанося удары сзади, полицаи погнали нас сквозь сделанные в насыпи проходы к оврагу. Там нас выстроили, обнажённых, в шеренгу, растянутую вдоль стометрового края ямы. По всей длине глубина её не была одинаковой, в отдельных местах она достигала двадцать пять, а то и тридцать метров, но там, где поставили нас, было метров десять, не больше. Я посмотрел вниз – поверхность дна была присыпана рыхлой землёй, но, если вглядеться, можно было заметить, как тут и там в земле этой происходит шевеление, будто некие незримые сущности, пробивая себе путь на воздух и земную твердь, пытались выбраться из подземных глубин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу