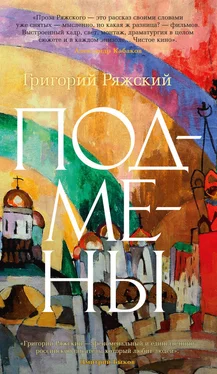Этим же вечером поговорила со всеми. Моисей особо не удивился; как истинный учёный, ухватил идею сразу и даже несколько развил. Сказал:
– Сразу же после этого можем с молодыми съехаться, а Анастасии Григорьевне, как человеку пенсионного возраста, наверно, правильней будет одной в двухкомнатной квартире жить. Ей там и по метрам свободней будет, и по воздуху вольней. Намучилась. А к нам пускай в гости ходит, ты как?
Вере было всё равно: ни то ни другое в её планы уже не входило. И потому она, бодро кивнув, согласилась с доводами мужа. С Лёкой же, как ни странно, получилась небольшая затыка. Тот, выслушав вердикт власти, дал понять:
– Да мне по-любому нравится, мам. Вы мне не мешаете, и я никому мешать не собираюсь. Надо будет, распишемся, просто для нас это дело восемнадцатое, поверь, мы и так муж и жена, остальное лично меня мало волнует. Ну, до августа, хорошо, подадим, если надо. Ну а пока время есть, чего дергаться? У меня по учёбе завал, две курсовые сразу и экзамены на носу.
Грузчик, подумав, тоже дал добро, обозначив 500 рублей мелкими купюрами, но разом. И на перепрописку тоже шёл, так что сложилось вроде бы и тут.
Тем временем семья осуществила локальное внутриквартирное переселение. Лёка со своими перебрался к покойникам Рубинштейнам, поместив детскую кроватку в тот же спальный альков. Анастасия Григорьевна отбыла на его, лучшую против своей из-за большего окна, половину комнаты. Моисей же Наумович просто перетащил письменный стол в освобождённую княгиней полукомнату и, плотно затворив за собой дверь, ощутил прилив временного счастья. В результате каждый из членов семьи на ближайшие полгода обрёл долгожданный комфорт и не замедлил им воспользоваться. Не улучшила персональные условия проживания одна лишь Вера Андреевна, добытчица и ключевая сила семейного благополучия. Однако, находясь в предвкушении жизненных перемен, на подобный пустяк она просто закрыла глаза.
До того как Лёке перетащиться, устроили субботник. Всё рубинштейновское старьё сдвинули в дальний угол, высвобождая пространство для нового обитания. Стариковскую кровать вместе с неподъёмным матрасом пришлось установить вертикально вплотную к скрипучему гардеробу с бельём и носильными вещами. Отдельные предметы, на какие рука не поднялась, чтобы унести на помойку, баба Настя распихала по освободившимся внутренним полкам всё того же гардеробного мастодонта. Прочую дрянь, вроде всех этих халатов, мешков и других хламид, она-таки утащила вниз и раскидала кульками по мусорным бакам. Для личного пользования оставили лишь обеденный стол, на котором оказалось удобно пеленать Гарьку, и старую люстру, от которой Лёка просто не мог отвести глаз. Сказал, досыта наглядевшись:
– Модерн, конец девятнадцатого века: латунь, бронза, синее стекло. А эти ромбики… О-о-о-о!.. – Он указал на них пальцем, обращаясь к Кате. – Ты только посмотри, насколько всё совершенно в пропорциях. Это только кажется, что вещь обыкновенная, на самом деле это и есть красота. Чудо, а не светильник. Даже непонятно, откуда это у стариков.
Оставался сундук, тот самый, что кантовала мать-княгиня. После увольнения из кухонной кладовки он помещался в небольшом тамбуре между коридором и комнатой Ицхака и Деворы и, честно говоря, слегка мешал свободному проходу. Однако перемещать его было уже некуда, как не имелось и прав на утилизацию. Моисей Наумович обратил ещё внимание на то, что амбарный замок, прежде болтавшийся на объёмных металлических петлях, исчез. И теперь свободный доступ к содержимому сундука по существу был открыт.
– Так, может, мы его на попа? – предложил он Лёке. – Тут же на месте, а внутренность уберём?
– Хорошая идея, – согласился Лёка, – давай, пап. Вернусь, доделаем.
Сын ушёл, у Дворкина же оставалось два с небольшим часа до начала лекционной пары. Он и полез туда, вовнутрь, исследовать содержимое на предмет устранения слежавшейся дряни, мешающей кантовке сундука. И – наткнулся, почти сразу. Она на самом верху лежала, эта довольно увесистая папка, аккуратно перехваченная крест-накрест красной тесьмой. Моисей потянул за краешек завязки, тесёмки распались, папка, распухшая под гнётом содержимого, раскрылась. Там был блокнот для записей, довольно объёмный, напоминавший довоенные подарочные. Не хватало разве что тиснёного голубочка на обложке с веткой лавра в клюве или распустившейся до отказа розы. Блокнот был в твёрдом тёмно-коричневом коленкоровом переплёте с круговым обрезом серебристого оттенка. Ни запаха слежавшейся пыли, ни плесени, ни ощущения сырости. Под папкой лежали сложенные стопками детские вещи: рубашки, маечки, носки подросткового размера, летние брючки, две мальчиковые курточки времён давно истекших, пальто, панама. Отдельно – синяя шерстяная юбка, ношеный свитер, несколько выглаженных носовых платков и пара допотопной обуви – женские туфли на среднем каблучке. Ниже, на дне сундука, лежал завёрнутый в бархотку предмет. Дворкин взял его, машинально взвесил в руке. Предмет был твёрдый и сравнительно увесистый. Он развернул тряпицу – у него в руке оказался револьвер. Оружие было явно не новым: тут и там на корпусе и на стволе просматривались отчётливые царапины; да и весь он был словно потёртый временем и небрежным обращением неизвестных владельцев. Моисей откинул семизарядный барабан – там оставалось три патрона, остальные ячейки были пусты. Он поднёс его к лицу, втянул ноздрями воздух. От револьвера пахло старым металлом и, как почудилось Дворкину, остатками недавней гари. Он завернул его в бархатную тряпицу и положил в карман. Затем опустил крышку сундука и, сунув блокнот под мышку, двинул к себе, в честно завоёванную полукомнату. Где-то сзади орал Гарька, то ли мокрый, то ли внезапно проснувшийся и возжелавший невесткиной груди. Он слышал, как Катя его успокаивала, уговаривая ласково и чуть притворно-строго, и Моисей Наумович подумал, что нет на свете ничего лучше правильно устроенной семьи, где все любят всех, не порицая, но и не умиляясь несовершенствам друг друга, не влезая в глубоко личное, но и не терпя каждый в другом лишь то, с чем нет и совершенно не может быть согласия. Как с недавних пор стало у них с Верой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу