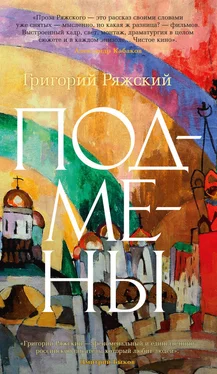Знаю, с каким неулегшимся сердцем уезжали Вы после похорон, как не могу я и забыть до сих пор тот Ваш взгляд, когда Вы прощались и уходили, чтобы больше никогда не вернуться в этот город. Чаще кончина близких соединяет родню, нас же эта смерть развела ещё дальше. После этого я долго думала, стоит ли мне делать то, что в итоге-таки сделала, – я имею в виду это письмо. И знаете, я не жалею. Правда не только справедливей лжи, но и лучше любой недосказанности, особенно когда оба мы любили и дальше будем любить и помнить одного и того же человека. Что касается Вашей мамы, то Вы уж простите меня, но только это тоже правда и больше ничего, и потому Вы имеете право её знать. Надеюсь, она не поколеблет Вашего отношения к ней, потому что есть люди слабые, а есть кто посильней. Наверно, она искренне любила Вашего отца, но оказалась слабой, обстоятельства стали сильней её, но в жизни, бывает, случается и так, Моисей.
И последнее. Наум Ихильевич так и не узнал, что Ваша мама отказалась забрать его. Для него она ушла из жизни в то время, когда он всё ещё был в двустороннем параличе. После чего его и перевезли ко мне как к врачу, который его вёл и потому согласился взять. И по этой причине в сердце его нет и не было обид, он ушёл счастливый тем, как получилась его жизнь. Что не достал его ненавистный вождь и что были в его жизни две любящие его женщины. Огорчало его лишь то, что так и не сумели Вы, Моисей Наумович, простить отца за его вторую и тоже честную любовь. По крайней мере, так он всегда думал. А сказать ему ещё одну правду означало бы разрушить ещё одну веру в человека и в любовь. Тут я перед Вами виновата, Моисей Наумович, – выбирая между Вами и Вашим отцом, я выбрала его, тем более что до самого конца продолжала опасаться повторного инсульта.
На этом я завершаю своё письмо и благодарю Вас, что выслушали старуху. Всего Вам наилучшего, и прошу не держать на меня зла, потому что помыслы мои были неизменно чисты и такими же остаются по сей день.
Дворкина А. А.
P. S. А Лёка Ваш мне ужасно понравился, он воспитанный и, несомненно, умный мальчик. Я нашла в нём несколько милых черт, приятным образом схожих с некоторыми характерными особенностями Наума Ихильевича, в лице и манерах, и теперь эта память станет греть мне сердце. Разумеется, всё по завещанию отойдёт Вашему семейству, о том не беспокойтесь. Там немного, но мне чем дальше, тем меньше нужно. Надеюсь, то, что останется от нас с его дедом, ни Вам, ни Лёке не помешает».
Какое-то время Дворкин сидел молча, не выпуская из рук последнего листа. Он выбрал щербинку на паркете и всматривался в неё невидящим взглядом. В голове было больно и пусто: любая быстрая мысль, возникавшая в ходе чтения этого нежданного и совершенно убийственного послания, тут же расшибалась о невидимую преграду, которую, впрочем, никто не воздвигал. Уже само по себе всё было не так – настолько нечестно и ошеломительно несправедливо, что он поверил сразу и всему. Так всё и было, именно так и никак больше, и в этом не было у него сомнений, иначе он сразу бы почувствовал неискренность или же малейшую попытку замешать в это письмо даже микрон неправды.
За окном был зябкий март. Моисей оторвал тело от кресла и, приблизившись к оконному проёму, глянул по ту сторону стекла, влажного от струек раннего дождя, смывавшего с подоконника остатки ржавого снега. В это время года во дворе на родной Каляевке, как и в жизни профессора Дворкина, было промозгло и неуютно. За низким забором дворового палисадника торчали всё те же золотые шары, вернее, их окончательно пожухлые останки, печально замершие в талых сугробах. Вероятно, даже им, давно уже неживым, но так и не выдернутым из грунта перед началом долгой зимы, было зябко. От всего веяло неуютом и холодной сыростью.
Внезапно сделалось жарко. Поначалу горячий градус, возникший где-то в самом низу, у колен, неспешно распространялся по его ногам, подступая к бёдрам. Затем вдруг, стремительно разогнавшись, достиг одновременно грудины и горла. Ему стало тяжело дышать, жара становилась окончательно нестерпимой, и тогда Моисей резким движением распахнул окно. Затрещала, разрываясь, бумажная полоса, просыпались куски высохшего клея и одеревеневшей масляной краски, отслоились и полетели на письменный стол спрессованные слои медицинской ваты, втиснутой Анастасией Григорьевной в узкие щели оконной рамы перед началом зимнего сезона. Неприятный мартовский ветерок тут же занёс в кабинет межоконную пыль и ошмётки заскорузлого снега, образовавшего на подоконнике с уличной стороны рыхловатую грязную корку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу