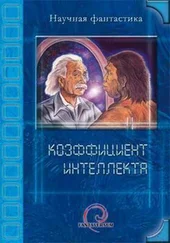6
По фасаду было две комнаты — прежние гостиные. Когда Форрест последовал за Банки в дом, оказалось, что тот поджидает его в коридоре; Форрест нашарил в кромешной тьме его протянутую руку. При прикосновении старая сухая кожа зашуршала — как кожа гремучей змеи, дракона, отшельника; как кожа всех негров, к которым он в своей жизни прикасался, начиная с добродушных своенравных кухарок, работавших когда-то у них в доме (языкастых и заботливых). Руки, однако, он не отдернул. Банки сказал:
— Ну, пошли!
Форрест кивнул, хотя никто этого кивка разглядеть не смог бы, и почувствовал, что его ведут куда-то вправо, а потом в дверь и на середину комнаты. Он осторожно шагал, пока не споткнулся обо что-то мягкое.
— Вот вам постель, — сказал Банки и вышел.
Форрест присел на корточки и потрогал. Подстилка из небрежно сложенных старых ковров или драпировок. «Клоповник, наверное», — подумал он, впрочем, довольно равнодушно. И снова неподъемный груз, тяжелее, чем усталость, навалился на него, словно норовя вдавить в землю. Груз такой непосильный, что Форрест даже не пытался определить его, назвать, понять его происхождение. Он расшнуровал высокие ботинки, лег и провалился в сон. Никаких страхов. Безоговорочная сдача.
После нескольких часов безмятежного сна с мимолетными сновидениями ему приснилось вот что: много дней брел он знакомыми местами в южной части штата Виргиния (сосновые леса, холмистые пастбища, и все это — и деревья, и воздух — гудело, как гигантский колокол, от звона миллионов цикад), наконец, усталый, но спокойный, он пришел в небольшой городок, в какой-то пансион. Расписался в книге, предложенной ему стоявшей у дверей дамой (дом принадлежал ей — небольшой, но прохладный; она была вдова, лет сорока с небольшим, красивая, любезная, с обворожительной, непринужденной грацией добывающая трудный хлеб для своих детей, себя, прислуги: двери ее дома были широко открыты для всех и каждого — все это он отчетливо осознал во сне). Она провела его в комнату в задней половине дома, куда почти не долетал уличный шум. Показав ему шкаф и умывальник, она повернулась было идти, но остановилась и сказала: «Вот ваша кровать». В комнате стояли две железные кровати, большая и маленькая; она указала на маленькую. Он не стал задавать вопросов, просто поставил на пол саквояж (который к тому времени оказался обмотанным веревкой, как тюк), но она улыбнулась и сказала: «Вы уплатили за комнату для двоих. Теперь придется ждать второго». И с этими словами повернулась и вышла, и он не видел ее — да, собственно, никого не видел до самого вечера, когда до него донесся издалека гонг, сзывавший к ужину; тогда он умылся и пошел. Он уже съел все, что было на тарелке, — бифштекс, подливку, кукурузу, фасоль, помидоры, — когда в дверях столовой появилась хозяйка, сосредоточенная, как сивилла, и стала вглядываться в лица ужинающих. Форрест сразу понял, что высматривает она его — в полутемном холле позади нее кто-то стоял, — но ничего не сказал. Молодой человек, сидевший по правую руку, спросил Форреста о цели его путешествия. Повернув лицо к хозяйке, он в то же время обдумывал ответ на этот вопрос, чтобы потом не забыть. И только он раскрыл рот, как заговорила дама, однако не обращаясь к нему. Она повернулась к человеку, стоявшему позади нее, и сказала отчетливо:
— Мейфилд, садитесь рядом с Мейфилдом.
Вперед неторопливо шагнул старик в чистых белых локонах до плеч, в одежде странника (точнее, бродяги). Шел он, не подымая глаз от пола, от своих шаркающих ног; шел осторожно, потому что был стар и устал. Форрест хотел было встать и помочь старику, но тут молодой человек справа снова спросил его о цели столь длинного путешествия, так что Форрест повернулся к нему и сказал: «Ради здоровья, исключительно ради здоровья», — а за это время старик успел опуститься на стул рядом с ним. Не произнеся ни звука. Он шумно дышал, изнуренный последним этапом долгого пути; сел же без слова приветствия, без взгляда, без улыбки. Опустив голову, старик смотрел в свою пустую тарелку и, когда Форрест передал ему блюдо с остывшей едой, молча, не подымая глаз, положил себе бифштекс и гарнир. Молодой человек справа спросил Форреста о его здоровье: «На вид никогда не скажешь, что вы больны…», но Форрест, не таясь, смотрел на старика, сознавая в то же время, хоть и не мог, не имел возможности проверить, что дама все еще стоит в дверях и тоже смотрит. Смотрела она на двоих — на Форреста и на старика — по-прежнему сосредоточенная, но не потому, что пыталась разгадать что-то, а из страха, что чего-то не произойдет. Произошло! Тут же! Старик взял печенье, разломал его пополам. Оказалось, что он отец Форреста. Форрест понял это. Безошибочно! Вне всякого сомнения! Он почувствовал, что дама тоже улыбается. Форрест выговорил имя: «Робинсон! Отец!» Старик не спеша ел печенье, по-прежнему не подымая глаз от тарелки. Он не производил впечатления голодного. Просто знал, что его привели туда, где положено есть. Однако, прожевав кусочек и проглотив, он повернулся и вопросительно посмотрел на Форреста глазами, запомнившимися с того самого утра, с одной только убийственной разницей, — взгляд этих глаз уже не был просящим или ищущим, просто вежливым. Он, казалось, не знал, что сказать сидящему рядом улыбающемуся незнакомцу. Теперь ждал чего-то один лишь Форрест. Все остальные ели рулет со смородиновым вареньем (стоял июль), дама исчезла. Старик — конечно же, это был Робинсон Мейфилд, отец, которого Форрест не видел вот уже двадцать восемь лет и к которому рвался теперь всей душой, — старик улыбнулся и сказал, взвешивая каждое слово: «Извините! Очень может быть. Вполне допускаю, что вы правы. Я слишком устал, чтобы ответить. Слишком устал, слишком далек». Форрест не задумался, от чего он далек, не задумался, почему так страстно хочется ему сегодня же услышать собственное имя, произнесенное этим старческим голосом. Он сказал: «Хорошо, не будем», — и повернулся к тарелке с подернутой застывшим жиром едой.
Читать дальше