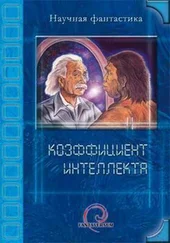Форрест, совершенно раздавленный, лежал на спине в постели, несмотря на все проветривания все еще попахивающей затхлостью. Ничего он ни с кем не разделил. Ничего не получил такого, чего не мог бы получить где угодно. Ничего не потерял, если не считать какой-то йоты своей силы и несдержанного стона. Всего лишь несколько месяцев назад — одиннадцать, чтобы быть точным, — Евино тело приняло в себя частицу его самого и не спеша превратило в тело ребенка, которого он еще не знал и, возможно, никогда и не узнает, хоть носил этот ребенок — по желанию Форреста — имя его отца. Того самого, неудовлетворенного, все на своем пути порушившего отца — может, до сих пор где-то странствующего. Уж этого ей не изменить, как не заглушить в их сыне отцовского начала — закваски и теста.
6
Спустя два дня Форрест работал в огороде — сперва вместе с племянниками, весьма поразвлекшими его своей болтовней, а потом один, — они упросили отпустить их на гору к палмеровским мальчишкам, задумавшим — ни мало ни много — построить за лето механическое пианино. Солнце, обдувавший его свежий ветерок, осознанное за две ночи до этого одиночество и врожденное упрямство (особенно теперь необходимое и постепенно возвращающееся) способствовали тому, что чувствовал он себя значительно лучше, крепче на ногах; лишь в дальних уголках мозга прятались опасные мысли — таились на грани, за которой лежали и прошлое и будущее. Там им и место, он не собирался тревожить их, хорошо сознавая силу их власти, однако из опыта всей жизни зная, что вступят они в действие, когда сочтут нужным, — какое им дело до его больных мест или страхов. Но сегодня они были настроены выжидательно.
Итак, он продолжал трудиться — сосредоточенный, целиком поглощенный своим делом, даже главное событие дня, прибытие последнего почтового поезда, не заставило его прервать работу. Услышав свисток паровоза, он на секунду остановился, подумал: «Если есть, то подождет, если нет — потом придет», — и продолжал сажать тыквы. Закончив ряд, он сложил инструменты, пошел к колодцу, набрал ведро холодной воды и понес его наверх в свою комнату — вымыться и переодеться. Он уже зашнуровал ботинки и выпрямился, когда вдруг, неизвестно почему, ему вспомнились слова тетки Винни: «Весь в него, вылитый его портрет!» Портрет отца! Никто никогда не говорил ему этого, и поскольку в доме не сохранилось ни одной отцовской фотографии и черты отца были запечатлены лишь в его памяти (и в памяти Хэт, безусловно), он подошел к стоявшему на комоде зеркалу и посмотрел в него. Утром он брился, но не очень-то себя рассматривал. Не надо только смотреть на забытые Евой вещи, которые он сложил в аккуратную стопочку (саше для носовых платков — рождественский подарок Хэт, ленту, бывшую у Евы в волосах в ночь их свадьбы, индейский наконечник для стрелы — подарок мальчиков Робу). Зеркало ничего не сказало ему, хотя он улыбался, хмурился, даже попробовал изобразить лицо отца, запавшее в память в то далекое утро, когда отец приник к нему, тщетно стараясь поделиться с сыном какой-то своей тайной или неизъяснимой нуждой. Ничего! Он видел лишь собственное привычное лицо — внимательное, открытое, слегка покрасневшее от работы на солнце. Форрест снова улыбнулся — тоже к лучшему, тоже своего рода облегчение, — сошел по лестнице вниз, крикнул в кухню Хэт: «Тебе помочь?» — на что Хэт ответила: «Нет, только не пропадай, пожалуйста!» Вышел через парадную дверь, спустился с крыльца и только сделал несколько шагов по дорожке, как услышал скрип открываемой калитки; подняв голову, он увидел негра с серьезным лицом. Форрест остановился на всем ходу, так что его даже шатнуло, негр тоже остановился в калитке.
— Мистер Форрест?
Форрест кивнул.
— Я Грейнджер, — сказал незнакомец. Не взрослый, а мальчик, высокий мальчик, с приятным, мягким голосом.
— Грейнджер? А чей ты? — спросил Форрест.
— Бабушка меня послала, — сказал мальчик. — Мисс Винни. — Он продолжал стоять на месте, только протянул руку. В ней было письмо.
На конверт падало солнце. Но держал он его адресом вниз. Форрест внимательно посмотрел Грейнджеру в лицо, пытаясь определить, что он за человек и с чем пришел. Лет, наверное, двенадцати — длинноногий, длиннорукий, совсем еще мальчик, простодушный, в застиранной белой рубашке. Ничего общего с видавшей виды старухой Винни. Напротив, глаза и губы его, казалось, таили что-то куда более насущное, чем содержание принесенного им письма, «Гермес, сын Майи и Зевса, велеречивый вестник и провожатый душ». Форрест, однако, не растаял.
Читать дальше