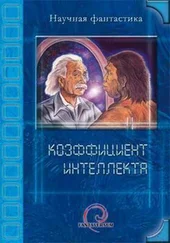— А ты уверен, что Хатч захочет переселиться туда?
— Да.
— Ты уже спрашивал его?
— Я сказал ему.
— И он согласен жить с тобой в этой развалюхе?
— Он готов уехать и подальше. Он ведь растет.
— Как он тебе это сказал? — спросила Ева.
Роб никогда прежде не поднимал против нее настоящего оружия, да и не было у него никогда такого оружия. Она смотрела на дорогу, лица ее не было видно, и он усомнился: есть ли оно у нее сейчас, да и трогает ли ее это сколько-нибудь. Нужен ли ей Хатч, как еще один объект для забот — понянчится с ним недолго, а потом вздохнет облегченно — или он для нее нечто большее? Роб не захотел узнавать, пощадил ее. — Я говорю о нашей поездке, — сказал он. — Только о поездке. Хатч хочет, чтобы она продолжалась подольше, он хочет поехать в Гошен, увидеть дом своей матери.
— И ты поедешь?
— Едва ли. У нас хватит бензина съездить в Ричмонд и на день к морю; разве что заедем по дороге в Джеймстаун.
— Пусть он съездит, — сказала Ева. — Пусть посмотрит дом своей матери. Рейчел этого заслуживает.
Он соврал: Хатч вовсе не просился в Гошен, но отступать было поздно. — Что ты хочешь сказать?
— Хочу сказать, что он последнее время все спрашивает о ней; прежде не спрашивал. Очень долго вообще не упоминал ее имени. Начал он с год назад, с Сильви. Она сказала мне как-то вечером: «Мисс Ева, Хатч спросил меня, сколько лет было бы его маме». Я велела ей в следующий раз послать его ко мне, я ему все скажу, но он больше ее не спрашивал. Наверное, от Рины узнал, только она ведь мне не скажет.
— Я расскажу ему все, что его заинтересует, — сказал Роб.
— Будь осторожен, — заметила Ева. — Детям нельзя давать почувствовать, что их в чем-то винят.
— Тут ты права, как никогда, — сказал Роб. — По-моему, я об этом где-то слышал. — Он почувствовал вдруг страшное утомление: беспокойная ночь у Сильви, сегодняшний день с его бурной сменой впечатлений, мысли о завтрашнем дне и поездке на север по палящей жаре. Он сказал, вставая: — Извини меня, пожалуйста, я что-то совсем раскис.
— Еще рано, — сказала Ева. — Ты же все равно не уснешь.
— Хоть полежу спокойно, — ответил он. — Пусть глаза отдохнут. Помочь тебе запереть двери?
— Не надо. Я дождусь Рины. Она все еще в кухне. Наверное, селедки оказывают сопротивление.
— Она их одолеет, — сказал Роб.
— Нимало не сомневаюсь, — сказала Ева.
Он не наклонился поцеловать ее, но, повернувшись к ней лицом, медленно поднял правую руку до уровня плеча и ладонью, показавшейся широкой и темной, сделал приветственный жест, словно повстречал незнакомца после долгих скитаний в неприступных горах.
Или словно свидетель в суде, дающий присягу говорить правду и только правду. Ева восприняла это именно так. — В чем ты присягаешь? — спросила она.
Не меняя позы, он с удивлением посмотрел на нее.
— Только Библии не хватает.
— В том, что искуплю свою вину, — сказал Роб. — Хотя бы частично.
— Ты никогда не причинял мне зла. Возвращайся сюда, — сказала Ева.
Больше сказать ему было нечего. Он понимал, что уже никогда ему не суждено ощутить с большей уверенностью свое право на жизнь. Теперь можно жить дальше и искупать прошлое. Он так же медленно опустил руку, повернулся, вошел в дом, поднялся наверх, туда, где спал его сын, — главное его достижение. Разделся и быстро уснул, уносимый вдаль теплым баюкающим потоком.
15
Он проснулся на рассвете около шести часов — тишину нарушало только пение птиц: никаких звуков внизу, Ринина дверь еще заперта. Хатч спал так тихо, что Роб приподнялся и посмотрел — жив ли. Сын лежал на самом краю кровати, сбив простыню и подсунув под щеку стиснутые руки; полуоткрытый рот, казалось, не дышал, но грудная клетка с редко обозначенными ребрами ритмично поднималась и опускалась, — значит, все-таки жив. Не отводя глаз от Хатча, Роб повторил привычную молитву: «Да будет воля твоя!» — затем встал и, как был в трусах и майке, подошел к столу и, не перечитывая написанного накануне, продолжил письмо.
«Я прекрасно понимаю, ты ждешь уже много лет, — не забывай, что и я ждал все это время — и те немногие радости, которыми я мог тебя вознаградить, ты принимала, таясь от всех. И как же мало их было! Все же я прошу тебя: потерпи еще немного! Самый последний раз. Тогда, надеюсь, я смогу дать тебе лучшее, на что способен: окончательный ответ. Это будет безусловное „да“ или безусловное „нет“. Как ты и просила.
Сказать „да“ я могу по той простой причине, что с самого детства мы с тобой испытывали взаимную приязнь; кроме того, теперь я наконец могу оторваться от прошлого и официально просить тебя соединить свою жизнь с моей, чтобы вместе пройти остаток отпущенного нам земного пути, разделяя пополам радости и горести (предпочтительно радости, поскольку горестей ты и без того хлебнула со мной немало). К тому же я всегда скучаю без тебя — так было и так, наверное, всегда будет. И, наконец, я благодарен тебе гораздо больше, чем ты думаешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила мне, я готов жизнь положить, только бы ты поверила.
Читать дальше