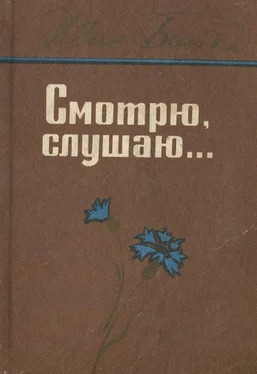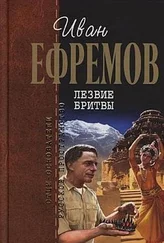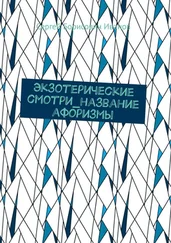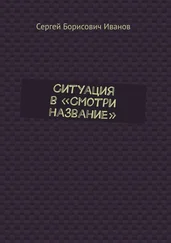А котики серые,
А хвостики белые.
Котик будет уркатать,
А наш Ваня крепко спать».
И заплачет… «Что вы, мама?» — «Да что? — И вытрет глаза тыльной стороной ладони, больше кончиками подогнутых пальцев, как только умеет одна она, единственная в мире. — По неустроенной твоей жизни день и ночь горюю. Нас война разлучила с отцом, а вы… так… по дурости…»
Стараюсь направить разговор: «А как у няни сложилась жизнь?» — «Да вот и не знаю. Мы ж вскорости уехали с хутора. Чуть ты подрос. А она вернулась к матери в Отрадную. Так с тех пор о ней ничего и не знаю. — И вздыхает. — Хоть бы у нее сложилось все благополучно. Ты бы разыскал ее, поблагодарил. Ты же там сколько бываешь!» — «А как ее фамилия?» — «Да вот и не скажу. Ты же знаешь, они на лубзаводе жили, наспроть хутора, в бараках там. Ее в Отрадной должны знать. Приметная такая, куда! Косы черные. Глаза черные. А лицо, как сметана, — белое-белое. На нее уже тогда многие заглядывались. Брат у нее был. И мать. Да только чи теперь живы? Сколько прошло?»
Я часто думал о ней. Думал, что когда-нибудь приду к ней. Да не приду — заявлюсь! И заявлюсь обязательно сильным, так сказать, «на белом коне». Чтобы обрадовать ее навсегда. Чтобы поразить навсегда. Чтобы запало навечно ей, что не напрасно сберегала меня в жизни…
Что такое я должен сделать, я не представлял. Но что-то особенное.
Было у меня такое чувство. И держалось это чувство долго. Может, держится во мне — и держит на свете меня — и сейчас.
И, может быть, это чувство и не давало мне встретиться с ней, с моей няней. Потому что я все еще не на коне. Тем более — не на белом.
Но я каждый раз интересовался ею, как только приезжал на родину, уже взрослым, и когда работал в Отрадной.
Мне хотелось, чтобы было у нее образование, у моей няни. Чтобы закончила она институт. Как я. И чтобы работала учительницей — направляла добрым своим сердцем путь моим землякам. И чтобы могла понять меня, мои беды, мои боли. Чтобы все понимала. И чтобы знала меня, мое дело. И чтобы ее дети и ее ученики знали меня…
И так же почему-то хотелось, чтобы она жила в Москве. Чтобы мы именно там и встречались.
Чтобы я пригласил ее к себе… Чтобы у меня была семья, чтобы все было надежно, красиво… Чтобы поехать вместе на море, попутешествовать по побережью… Или купить всей ее семье путевки в какой-нибудь знаменитый пансионат, если она постесняется вместе… Или сделать еще что-нибудь. Такое, чтобы передавалось ее детям и внукам. Моим детям и внукам. И всем-всем…
… Расположенный почти в центре станицы современный дом моего друга, ушедшего на покой старого журналиста Максимовича, и вся его жизнь кажутся мне тем, к чему я стремился, и разом тем, от чего ушел. И чем тяжелей год мне в моем деле, тем я дольше живу здесь летом, дольше отхожу здесь среди земляков, вступивших в свое будущее, и не порвавших со своим прошлым. Сначала я только смотрю на крестьянскую суету во дворе, страшно чужой здесь и страшно свой. И только потом, обжившись и оглядевшись, могу показаться «на люди» — сходить с Максимычем на его огород, расположенный за Урупом, на круче, откуда виден мой родной хутор, заглянуть в библиотеку, в редакцию, выехать в хозяйства…
И почти всюду на родине, на той или иной глубине чувств, я всегда думал о своей няне, к которой все еще не протоптал дорожку.
Но в этот раз не успел я еще попритихнуть сердцем в милом дворе земляков, как меня «оглушила» соседка его, бухгалтер с плодозавода, на котором я только что был с выступлением.
— Иван Николаевич! Интересно ты рассказываешь, Иван Николаевич! — затронула она меня. — Всем так понравилось. А особенно… знаешь кому?
— Кому, Галина Георгиевна?
— Нашей Шуре. Вот кому. Александре Федоровне Мельниковой.
— Какой… Александре Федоровне?
— Да няне твоей, Иван Николаевич! Мельниковой Александре Федоровне, которая тебя вынянчила!
Сердце мое качнуло меня, провалило меня среди зелени двора, высветив перед глазами зал клуба завода, который я забыл тотчас, как отошла машина. Напрягался вспомнить, кто где сидел в зале.
— Неужели там была няня?
— Ну, а то ж как, гля! — радовалась Галина Георгиевна, которую за слезами я едва различал. — Сидела, Иван Николаевич! Глядела во все глаза!
— А где она сидела?
— Да прямо перед тобой. На третьем ряду. Видел, где я сидела?
— Да, конечно.
— Ну, так она рядом сидела. На том же ряду.
— Господи! Неужели?
— Вот тебе и господи! Неужели! — весело передразнила Галина Георгиевна. — Мы ее специально посадили перед тобой, чтобы вволю насмотрелась.
Читать дальше