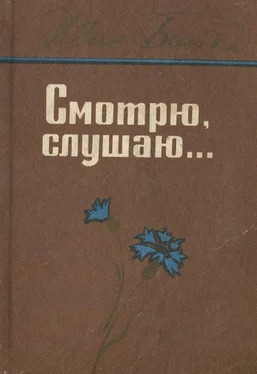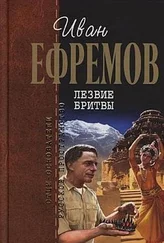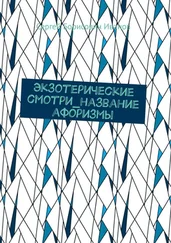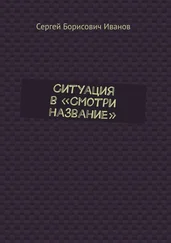«Действительно колхозное горе! — смеялись на хуторе. — Что было бы, если бы их спаровать, Катькиного Николая и Степанову Соньку?..» — «Та подохли бы!» — хохотали труболетовцы. «Подохли бы — это точно! Только ж несправедливо бог парует!»
Справедливо или несправедливо «парует бог», но наша мама была в самом деле моторная, под стать Степану: она могла прясть или вышивать и одновременно разучивать для спектакля в ликбезе «Наталку-Полтавку», печь хлеб, учить уроки и смотреть за детьми. Разумеется, при этом не обходилось без курьезов. Однажды она готовилась посадить хлеб и укачивала меня: качнет люльку ногой, пропоет какой-нибудь куплет и за тесто, качнет и… При этом, конечно, следит за огнем в печи, налаживает борщ… А гвоздь на матице — возьми и разогнись, мама хотела подхватить меня, да заляпала тестом. «Ну, тогда и досталось Николаю! — смеясь, рассказывает мама. — Два дня потом ходил как шелковый: и за вами смотрел, и по хозяйству брался. Потом забыл: опять ноги на спинку, дыми-ит… Ну, чистая Сонька, ха-ха-ха-ха», — смеется мама.
И видно было, как ей близко и дорого прошлое. Ей страшно еще и теперь за нас, но и радостно, что мы выросли, трое из пятерых. Радостно, что был отец, хотя она и хулит его. Радостно и горько: ей жаль отца, жаль Шуру и Лиду, что умерли совсем маленькими. Шура застыл на Жандармовке, в бригадном, вагончике, который приспособили под детские ясли, — спал над дырой от осколка; Лиду задушила скарлатина. Тоже в поле, на горе.
Трудно было маме и надумала она взять для меня няньку, после того как я заболел в яслях воспалением легких. Но кого взять? На счастье, когда мама осталась дома со мной, к нашему двору подошла побирушка, девочка лет десяти-одиннадцати. Мама лепила как раз вареники, пригласила девочку и расплакалась, узнав, что отец ее умер в голодные годы и теперь она тем и живет, что просит, и еще кормит больную свою мать и меньшего брата. «Ты такая же несчастная, как и я! — заливалась слезами мама. (Она — с семи лет круглая сирота: мама ее умерла, отца убили, росла по людям). — Я возьму тебя к себе, вот за Ваней смотреть. А мы и маме твоей поможем». Девочка — звали ее Шурой — с радостью согласилась. Мама выкупала ее и обстирала, сшила ей новое платье, заплела в косы свои девичьи ленты…
Мне страшно повезло, что в няни попалась та девочка, Шура. И не только мне, а всему колхозу. По рассказам мамы и хуторян, это было удивительное создание, раскрывшееся на ласку и доброту всеми качествами своей чуткой, нежной и отзывчивой души. Черноглазая, с черными косами, она, говорят, просто расцвела у нас. Всегда чистенькая, нарядная, она поприбирает и в хате (я почему-то представляю, может, помню, как было у нас тогда: постели — в кружевных покрывалах, расшитые подушки заострены углами вверх, над ними — карточки под расшитыми украинскими рушниками), выкупает и нарядит меня… Едут на гору, в ясли: все мои ровесники — на днище мажары, а она меня на руках держит, — далеко видно красное одеяльце! Она помогала и няне ясельной: каждого обстирает, каждого выкупает, нарядит. Председатель распорядился начислять ей трудодни. Потом она вообще перешла в колхозные ясли — упросили женщины! — и мама не боялась за меня: раз там няня Шура, со мной ничего не случится. А она, няня Шура, все же выделяла меня. Приедут на стан, а она: «Тетя Катя! Тетя Катя! А наш Ваня лучше всех! Посмотрите: напы-ижился-а!»
Няня Шура!
Теперь уже я стал сознавать, что многим в моей душе обязан моей песенной маме, и ей, моей няне. От них у меня те слова и речения, которые внезапно, с прожигающими душу слезами, вдруг выворачиваются во мне за столом…
Когда я спрашиваю, какие песни мне пела няня, мама светло вздрагивает и точно молодеет, прислушиваясь к прошлому в себе, замирая в движениях, незаметно для себя роняет слезу. «Да все, какие я пела». — «А какие?» Мама опять прислушивается к себе, глядя перед собой, опять вздрагивает светло, омолаживающе: «Да вот хотя бы эту:
Я — ту, ту, ту, ту, стучу.
Я горошек молочу
На зеленой горочке.
Ко мне куры летят,
И вороны летят.
Я по курице — цепом,
По вороне молотком.
А баюшки, баю, бай,
Спи, Ванюша, засыпай».
— Это пели, когда молотили…»
И передо мной встают родные места: хутор на горе кажется на уровне с самим Эльбрусом, станица и хутора внизу, за Урупом…
«Да я и сама не знаю, откуда оно бралось, — говорит мама. — Так, само приплывало. Что делаем, о том и поем. Что на тебя глядит, то и в песню летит. А Шура подхватывает, она такая хваткая была да памятливая. Вот, еще мигнуло:
Читать дальше