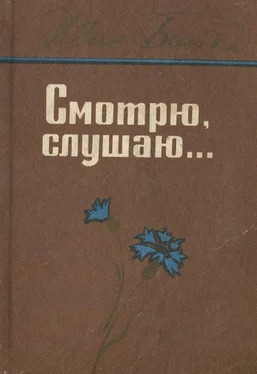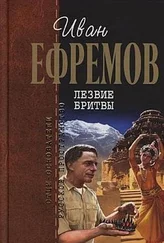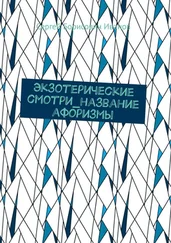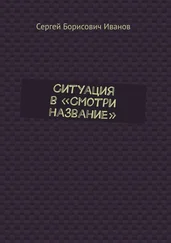— Тут такая петрушка: мы еще ничего не приняли!
— Не приняли, а… — Я растерянно показал в сторону склада. И показал на завод: — И вот…
— А что делать? — говорил красный Михаил Потапович. — Ячмень подошел, его куда-то надо было девать! Овес подошел, его тоже куда-то надо было девать! Вот-вот пшеница пойдет, ее тоже куда-то надо девать!
Директор, кивая, разжал губы:
— В прошлом году у нас несколько тонн унесло в яр. — И показал на ерик под Иногородней и на яр. — В прошлом году тоже град был. Такая петрушка. У нас каждый год град.
Михаил Потапович мотнул толстой своей рукой на агрегат:
— И по гранулам план! Мы, конечно, требуем, чтоб переделали. Но надо уже давать гранулы!
— Да по всему план! — вдруг энергично сказал ковыльно-белый директор. — И по гранулам. И по шерсти. И по пшенице. И по ячменю.
— А они этим и пользуются, строители, что у нас план! — сказал возбужденный Михаил Потапович, и в ту же секунду над Казачьей, над которой планерно кружили коршуны, платочком распустилось взвившееся свистящее облачко. И такие же платочки почти разом раскрылись по всей степи за Урупом: чуть ближе Удобной (там, я знал, строится крупнейший комплекс по откорму крупного рогатого скота), где-то над Передовой (там строятся комплексы по откорму овец), около Спокойной. И тотчас, как проснувшийся и вспомнивший, что у него бездна дел, богатырь, завздыхал, раздышиваясь и откашливаясь от заспанной устали, пневматический молот: «Уф-фу! Ух! План! Фу, план, план, план!» Поднявшиеся в степи свистки слились в один, волнующий, будоражащий, подстегивающий, тягостно-тревожный свист и потом растворились, стаяли в голубом просторе над Предгорьем вместе с пропавшими облачками. Пневматический молот, откашлявшись и отфыркавшись, разошелся во всю мощь и сотрясал вокруг все, добивая до снеговых гор и до Эльбруса: «В пух! В трах! Все! Все! Все — план!» Коршуны над Казачьей упруго развернулись в дрожащей сини: один, сложив крылья, камнем пошел вниз — либо на подворье Липченка, либо на подворье Швеца; другой как бы нехотя, но хозяйственно отрулил в сторону кладбища и тут же сорвался в яростное пике; третий надменно кружил над стройкой Труболета и накренивался то на левое крыло, то на правое, высматривая что-то. Труболетовцы широким веером расходились по своим рабочим местам — лезли на леса, садились в кабины, спрыгивали в траншеи, плевали на руки и брали лопаты, ключи, баранки, рычаги, опускали черные очки в предохранительных масках перед газосварочной вспышкой. Преграденская оглядывалась, кричала:
— Ванюшка! Вентилятор — главное!
21
И уже все делали прежнее свое дело, изредка поднимая улыбки, подмигивая. Надел парусиновые рукавицы и стал привинчивать какую-то рейку на «космическом» агрегате и голубоглазый главный строитель Труболета. Я сказал в предчувствии новых перипетий и забот, которые уже фактически навалились на меня:
— Да, дорогие земляки, тут нельзя не вмешаться!
— Главное — нам бы подстанцию! — воскликнул Михаил Потапович и, как бы стесняясь за свое разочарование во мне, переминался уже от нетерпения. — Мы где только не были! Всюду поотказывали…
Ковыльно-белый и гибкий директор только кивал: «Да, главное — подстанция!»
— Кто поедет со мной?
— Да все равно, — сказал Михаил Потапович, страшно желая ехать и действовать. Но, глянув в сторону разъярившегося в своей работе пневматического молота, куда подъехал грузовик с прицепом; полным свай, засуетился и покраснел от досады: — Нет, наверное, езжайте вы, Алексей Алексеевич. Мне надо проследить. Ну, ни пуха! — сказал он, сжав кулак у мясистой своей груди, и, смешно мотыляясь по-гусиному, побежал к машине с прицепом, что-то крича и показывая толстыми своими руками распрямившемуся на подножке мозглявому водителю в пилотке и красной майке.
Директор мелко и светло кивал, искрясь улыбкой и поглядывая в окошко «Москвича», который проворно и легко взмывал по катавалам, на подъем Ставропольского плато, в объезд Майского (как мы когда-то ходили в школу с Любой Сгарской, когда хотели побыть одни). И вдруг, перестав кивать, сказал неожиданно и вдохновенно:
— Давайте я отсюда покажу вам Труболет, каким он будет. Отсюда все так видно. Раз такая петрушка.
Мальчонкой я и сам любовался с этого возвышения, на которое мы поднялись, перспективой родины, когда пас овец с дядей Федей и его напарниками и когда пас телят с Захаркой Калужным: отсюда Приурупье видно до самых снеговых гор как на ладони. Сгорбленный от давней работы за рулем, молчаливый водитель остановил машину, не дожидаясь приказа. Алексей Алексеевич так и сверкал вдохновением — откуда оно у него и бралось! — перед открывшейся картиной родной сторонушки. Я никогда не устаю смотреть с горы на свою родину; и она всегда разная, как море. Теперь она была видна километров на пятьдесят и больше — в голубой, дымке июльского марева, и Уруп блескал на ней чуть ли не до Эльбруса и чуть видных над голубой дымкой снеговых гор, и рафинадно искрились и вспыхивали а зеленой опушке садов родные станицы — Отрадная, Удобная, Передовая… Дальше и правей — Спокойная, Надежная, Бесстрашная… Еще правее, уже как смотреть на Армавир, — Веселый, Дружелюбный, Бесскорбная… Да, сколько раз я смотрю с горы на свою родину с такими чудными, единственными в мире названиями хуторов и станиц и никогда не уставу смотреть!
Читать дальше