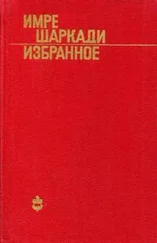Последним явился самый старший мачехин брат, дядя Лайош. Он в нашей семье играет какую-то весьма важную роль, хотя какую точно, я вряд ли смог бы определить. Он сразу пожелал побеседовать с отцом с глазу на глаз. Мне показалось, отец отнесся к этому без всякого восторга и, пускай в очень тактичной форме, постарался как можно скорее от него отвязаться. Тогда дядя Лайош неожиданно переключился на меня. Он сказал, что хотел бы со мной «немного потолковать». И, уведя меня в дальний угол комнаты, поставил там возле шкафа, а сам сел напротив. Начал он с того, что, как мне известно, завтра мой отец «покидает нас». Я сказал, что да, мне это известно. Тогда он захотел услышать, будет ли мне его не хватать. Вопрос немного раздражал меня, но я все же ответил: «Ну да, само собой». Это мне и самому показалось недостаточным, и я быстро добавил: «Очень». На что он долго кивал, и лицо у него было страдальческое.
Зато после этого я услышал от него кое-какие удивительные и интересные вещи. Он сказал, например, что нынешний печальный день подводит черту под тем периодом моей жизни, который он назвал «беззаботное, счастливое детство». «Уверен, – многозначительно посмотрел он на меня, – подобные мысли тебе еще и в голову не приходили». Я сознался: в самом деле не приходили. Но он опять же выразил уверенность, что в словах его нет ничего такого, до чего я не мог бы дойти собственным умом. Я снова сказал: в самом деле вроде бы нет. Тогда он сообщил мне, что с отъездом отца мачеха останется без помощи и опоры, и хотя семья «не будет терять нас из виду», однако главной опорой с этого момента буду для нее я. «Ничего не поделаешь,
– продолжал дядя Лайош, – тебе рано придется узнать, что такое заботы, что такое самоотречение». Потому что житье-бытье мое теперь будет, по всей вероятности, уже не таким безоблачным, как до сих пор, и он не хочет скрывать это от меня, поскольку говорит со мной «как со взрослым мужчиной». «Отныне, – сказал он, – ты тоже причастен к общей еврейской судьбе»; на этом он остановился подробнее, упомянув, что общая судьба эта подразумевает «непрестанные, тысячелетиями длящиеся гонения», которые, однако, евреям «надлежит принимать со смирением и бесконечным, жертвенным терпением», поскольку на испытания эти обрек их, за давние грехи, сам Господь, и потому, только уповая на Него, могут они надеяться и на милость Его; Он же ожидает от нас, чтобы и в этом тяжелом положении мы стойко вынесли все, что Он определил нам «по силам нашим и способностям». Скажем, мне, услышал я от него, дблжно в дальнейшем достойно показать себя в роли главы семьи. Тут он спросил: чувствую ли я в себе достаточно сил и готовности для этого? Хотя я не очень-то улавливал – особенно когда он говорил о евреях, об их грехах, об их Боге, – при чем тут, собственно, я, тем не менее слова его, не стану отрицать, как-то задели меня за живое. Так что я ответил: да, вроде чувствую. Он, как можно было судить по его лицу, остался моим ответом доволен. Вот и хорошо, сказал он. Он всегда считал, что я мальчик разумный и что в душе у меня «живут глубокие чувства и серьезное сознание ответственности», и это среди ударов судьбы в какой-то мере служит ему утешением, – так выходило из его слов. Тут он протянул ко мне руку и двумя пальцами, которые с наружной стороны покрыты были пучками волос, а с внутренней – легкой влагой, взял меня за подбородок, потом тихим, немного дрожащим голосом произнес: «Твой отец отправляется в дальний путь. Ты молился за него?» Была в его глазах некая суровая требовательность, и, может быть, именно взгляд этот пробудил во мне тягостное ощущение, что я что-то не сделал для отца. Самому мне это до сих пор и в голову не приходило, но теперь, когда он мне об этом сказал, я уже не мог избавиться от мучительных угрызений совести – и, чтобы освободиться от тяжкого груза, ответил: «Нет, не молился». – «Пойдем со мной», – сказал он.
Мы с ним вышли в другую комнату, окнами во двор. Здесь, в окружении старой, обшарпанной мебели, мы стали молиться. Прежде всего дядя Лайош поместил себе на макушку, на то место, где его седые, редеющие волосы вылезли, оставив маленький просвет, круглую, черную, с шелковистым отливом шапочку. Мне тоже пришлось принести из прихожей свою кепку. Тогда дядя Лайош достал из внутреннего кармана пиджака книжечку в черном переплете с красным обрезом, а из нагрудного кармашка – очки. И принялся читать вслух молитву, а я должен был повторять за ним кусочки текста. Сначала дело шло бойко, но скоро я стал уставать; мешало мне и то, что я ни словечка не понимал из тех фраз, с которыми мы обращались к Богу: ведь молиться Ему нужно было по-еврейски, я же еврейского языка не знаю. Чтобы как-то все– таки успевать за дядей Лайошем, я вынужден был следить за его губами, так что в конце концов все, что осталось во мне от этого странного эпизода, было лишь движение мясистых, влажных губ да лишенные всякого смысла слова чужого языка, которые я бормотал под нос. Ну и еще то, что я увидел в окно, через плечо дяди Лайоша: старшая из сестер, к которым меня приглашала Аннамария, как раз прошла по галерее напротив, этажом выше нашего, по направлению к их квартире. Кажется, тут я даже сбился немного и неправильно произнес текст. Но когда молитва закончилась, дядя Лайош выглядел удовлетворенным; на лице у него было такое выражение, что даже я на минутку почувствовал: ну вот, мы таки предприняли что-то ради отца. И в самом деле, мне стало легче, чем до молитвы, когда я не мог избавиться от того неприятного, тягостного ощущения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу