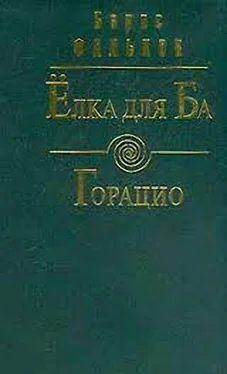Ты скажешь, законы революций на то и есть революционные законы, что в мирное время они не работают, они мертвы, и тогда наступает время законов продуманных, выношенных умом. Эх, да мирные твои, умные юридические законы только кажутся живыми и работающими, да и то лишь, когда совпадают с данностью. То есть, когда они дублируют данность, когда они вполне лишни. А в других случаях они только мешают работе. Ведь и бегемот сидит в воде и вечно жуёт не потому, что в республике Чад такая-то конституция, а потому что он вечножвачная водяная корова и есть, ничего не поделаешь, таким он дан, или мы не о бегемоте говорим. Чем может помочь ему самая прогрессивная конституция, произведение самых блестящих умов? Ничем, она может только помешать бегемоту сидеть и жевать, когда власти начнут копать канавы, строить плотины, то есть, силой проводить прогрессивную конституцию в жизнь затоки. Но, к счастью, и сама власть во власти своей собственной данности. И такая конституция рано или поздно отторгается ею посредством всяких поправок к конституции, смягчающих её реформ, радикальных консервативных революций. А если власть сама сделать это не в состоянии, слишком слаба, слишком далеко зашла умная болезнь, то ей помогают здравомыслящие соседи: войною. Ведь и соседские власти есть клетки одного общего организма власти. Все здоровые клетки организма подвластны своей данности — здоровью. И все больные клетки тоже своей — болезни. И согласно своей данности больные клетки должны быть отторжены здоровыми, если весь организм хочет остаться здоровым и жить дальше. А он — хочет. И именно так: дальше. То есть, каким и раньше жил, до болезни.
В такой, пардон, мизансцене по одну сторону пропасти — мы, скажем, с тобой, а по другую — семья Здоймов, в которую входят не только собственно хуторяне, но и их слюнявые ангелы, тёмно-синие, с государственными гербами во лбах, огород и кролики, морковка и капустка, ветер, воды и пламя! И даже дикие птицы с домашними животными под ручку… Кстати, я пришёл к выводу, что животных домашних вовсе нет. Все эти твари созданы искусственно, может быть и в колбах, в рамках опять же здравого смысла, этой меры того же частичного невмешательства в то, что дано от века, подарено навечно. Возьми, хотя бы, курицу… Правда, она есть тварь, созданная по правилам меры, без всяких излишеств, в полном соответствии со здравым смыслом? Вот почему ей вовсе незачем летать, ибо зачем, куда, в суп? И вот почему она всё же обладает крыльями: чтобы повар мог безошибочно отличить её от свиньи.
Есть от чего прийти в отчаяние! Чем глубже мой ум копает, забираясь в засекреченную область жития, чем тоньше он работает, чем ближе он к его сути, к его белкам и желткам, тем глубже противоречие между всё усложняющимся путём деления, всё более дифференцированным и утоньшающимся болезненным умом — и по-прежнему цельным, полнотелым, полносердечным и безумным здравым житием. Одна только мысль, нет-нет, предчувствие мысли утешает меня: а, может быть, всё же верно, что на достаточно тонком уровне работы они, так называемые больной ум и здравое сердце, неотличимы друг от друга? И тогда — надо продолжать мою работу в ту же сторону, стремясь к этому уровню, прикладывая всё больше усилий? Но человеческий ли это уровень?
Теперь о том, что во мне есть человеческого… Что там осталось человеческого. О трусости. Мне всегда не хватало смелости. Я всегда пытался сочувствовать всем им. Назовём их всех Здоймами. А теперь решил: а чего? Я разрешил себе сегодня то, чего раньше стыдился. Я разрешил себе ясное чувство по отношению к ним. Не сочувствие, а самостоятельное чувство. Не презрение, это глупо. Не ненависть, она бумерангом бьёт ненавистника. Не любовь, это невозможно… А отвращение. Почему именно это? Потому что я именно отвращён от них. То есть, я этого не делал сам.
Но и они отвращены от меня, и тоже не несут вины за это. Это дано. И всё тут. Процесс отвращения происходит непрерывно, вечно. Мне легко наблюдать за ним, нет, не за собой изнутри, это уже явно обнаружившая свою хрупкость, непоправимо разъеденная анализами область, а за активно стремящимся к цельности, к простоте, и делающим большие успехи на этом поприще, посторонним объектом: у меня под рукой есть Бурлюк. Он при мне всегда, и ему трудно ускользнуть от наблюдения. Чувство, с которым он сегодня относится ко мне, этот бывший приятель, есть именно отвращение. Наблюдая за приближающимся к совершенству простоты Бурлюком, я лучше понимаю себя, чем при помощи размышлений, этого сплетения внутренних фабул. Я осматриваю моего теперешнего неприятеля, кручу его в пальцах, как чуждый мне плод, как чернослив… Стараюсь не повредить при осмотре. Однако, ах! Он, оказывается, перезрел, лопнул в моих бережных пальцах, обнажились его внутренности, и хлынули наружу страшные нутряные запахи, и потёк горько-сладкий его гнойный сок. Как тут не чувствовать отвращения, как не испытывать его нам обоим? Ну, а что же я понял, разрешив и себе его испытывать? Что нашёл я для себя полезного в этом наблюдении и в этом чувстве? Страшно вымолвить: теперь нельзя с уверенностью предположить, что я есть.
Читать дальше