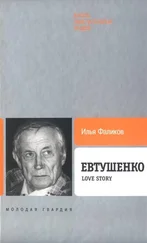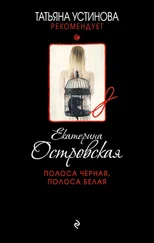Когда в 29-м году в связи с советско-китайским конфликтом с КВЖД уволили всех русских, именно ее хлопотами в феврале следующего года они были восстановлены на работе. А через пару лет, в дни страшного разлива Сунгари, она лично подобно графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу в петербургское наводнение.
7 ноября 1824 года вытаскивала тонущих из мутной водной стихии на свою белоснежную яхту, и множество многодетных китайских семей обязаны были ей спасением своих чад.
На Харбин обрушивались пыльные бури, а бабушка оставалась незапятнанной, как озерная лилия. Поутру она пробуждалась со словами веселого фокстрота на устах:
О, Чжалантунь, какая панорама!
О, Чжалантунь, какая красота!
Чжалантунь был одним из сунгарийских курортов — со скамеечками над рекой в сени развесистых дерев, беседками и мостиками, где она любила бывать в сопровождении кого-нибудь из харбинских поэтов. Их, поэтов, на берегу Сунгари насобиралось много, целая колония, писали они красиво и книги свои называли красиво — «Музыка боли», «Беженская поэма» или «Киоск нежности», а один молодой поэт носил имя и фамилию, совершенно совпадавшие с именем и фамилией ее первого, покойного мужа — Иннокентий Пасынков. Собственноручно не сочиняя стихов, она исправно посещала кружок имени поэта К.Р. и кружок имени Н.Гумилева. Заглядывала она и в кружок имени Н.А. Байкова. Видали ее и в литературно-художественной студии «Лотос». В моде была мелодекламация, и бабушка совершенно расцветала, садясь за рояль. Она любила полунапевать под Чайковского древних китайских поэтов в подлиннике.
Иннокентия абсолютно не интересовал черноглазый ангелочек Аполлон, сын бабушки, будущий отец Иннокентия, поскольку Аполлон пребывал в молочных летах.
Правда, временами бабушка забывала о своем месте в семейной иерархии, и, как порой не без испуга казалось Иннокентию, она вообще плохо помнила, кто сидит перед ней, когда она принимала его у себя. Под широколистым фикусом, деревом просветления, не запахнув шелкового золотистого кимоно с бегущими по нему лиловыми цветами ириса, она полулежала на софе с легкой сандаловой трубкой в фарфоровой ручке и, пуская кольца синего дыма в белый потолок, украшенный большим лепным лотосом (она была членом Общества белого лотоса), рассуждала о времени правления Сян-фень II года: «Китай тогда упустил свои уссурийские земли навсегда, Россия основала Владивосток и постепенно, облюбовав Маньчжурию, продвинулась вплоть до Сунгари, и вот мы, Иннокентий, сидим тут, размышляем о вечности и совершенно твердо знаем, что в пределах вечности мы с вами, Иннокентий, всегда будем рядом, и вот именно в этой композиции: я на софе и вы у моих ног. Не так ли?»
Когда ее так заносило, Иннокентий поспешно откланивался, тем более что за стеной ревел оперный бас, репетируя на дому царя Бориса. Пройдя по циновке, устилающей пол, и обувшись у двери, он отправлялся в свой номер в гостинице «Мельпомена». Свой номер он содержал в чистоте и делал это собственноручно, не допуская проворных коридорных в святилище книг и духовной сосредоточенности. В углу комнаты стояли веник и лопатка, которыми он орудовал при уборке. Это были единственные две вещицы, чем-то напоминающие ему непостижимо далекое отечество, шумящее за окном.
Еще недавно здесь пролетали поезда, защищенные спереди сталинским портретом. Вождь упасал их от крушений, как недавно всех нас — от поражения в войне. Я стоял в строю своего отряда, дожидаясь, когда поезд, дышащий жаром и черной гарью, с грохотом пройдет мимо нас и семафор пропустит нас к морю. Это пригород, всеобщая дача, станция Седанка. Море плескалось тут же рядом, за железнодорожной насыпью. Амурский залив.
Поезда наводили ужас. Совсем недавно под поезд попал кумир города цирковой борец Зорич. Он был худой, как жердь, и нисколько не похож на борца. Его и любили-то за то, что в жизни — не на манеже — он работал портовым грузчиком, а на ковер выходил из ярусов зрительской массы, чаще всего по ее требованию. Его ни разу не положили на лопатки. Всех этих толстых чудовищных атлетов ломал он, жилистый фитиль из портовой забегаловки. Забегаловка его и погубила. Она располагалась чуть не впритык к железнодорожному полотну, у стрелки, и, выйдя оттуда вечерком, он застрял ногой между рельсами при их переводе. Ноги его не стало, и борца не стало, и сам он мгновенно исчез, сгорел в сивушном огне. Как говорится, хоронил его весь город.
Читать дальше
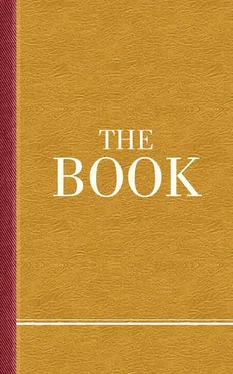
![Борис Фаликов - Величина качества [Оккультизм, религии Востока и искусство XX века]](/books/27716/boris-falikov-velichina-kachestva-okkultizm-relig-thumb.webp)