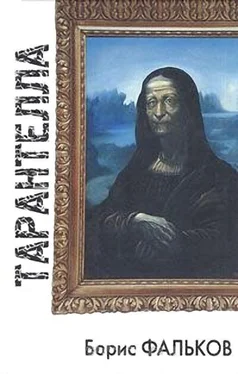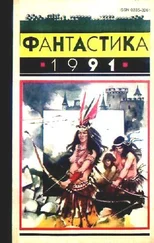Борис Фальков - Тарантелла
Здесь есть возможность читать онлайн «Борис Фальков - Тарантелла» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Тарантелла
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Тарантелла: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Тарантелла»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Тарантелла — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Тарантелла», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— И противоречивы, — от порога добавляет Адамо. — Ведь Мадонна Сан Фуриа объявлена вами святой, а у неё было точно такое же тело.
— Ну и хватит, — себе под нос бурчит священник, — в других нет никакой необходимости. По вашему добросердечию вы б расплодили их тысячами, толпами. А в толпе и сатане нетрудно спрятать своё мерзкое обличье. Поди потом, вытащи его оттуда, чтобы…
Что же, возьмут они меня в глазах моих, проколят ноздри мои багром? Удою вытащат левиафана и верёвкой схватят язык его? Буду ли я их умолять и говорить с ними кротко? А они — станут ли забавляться мною, как птичкой, свяжут меня для девочек своих?
— Скрываю лицо своё? — рычу я им через головы кордебалета, и дуновение пасти моей откидывает лоскут с моего лица, и сорвавшаяся с гребней зубов пена снова обрызгивает их всех. — Я открыл его, смотрите на него и радуйтесь папочке.
— Чтобы — что, padre? — интересуется приезжий.
Как же он упирается, не желая оставлять обманом захваченное место! Обороняет его не только от меня, а и от такого же самозванца, как он сам. Но и в его обороне найдутся прорехи, на всякую старуху — проруха: я расслабляю приезжему голосовые связки, гортанные его желудочки начинают вибрировать, и дышащая коньяком пасть его извергает мой рокочущий рык.
— Это моё обличье! — разражается он внезапным заявлением, хочется ему того или нет. — Это я размесил глину слюной своей, и вылепил вас всех. Всё ваше вылеплено из глины этих слов, из грязи, преображённой моей слюной в золото! Мне доступно всё, захочу — сомну и вымну вас заново, и вы станете совсем другими. В моих руках вы сейчас станете друг другом, золотые мои.
— Как это, чтобы что? Чтобы зафиксировать место проживания и имя, отвечает за padre, чуть обескураженного таким заявлением, Дон Анжело: этого удивить трудней, этот — материал покрепче. Что ж, каждому своё, и фиксатору душ — архангелу душеловов я связки натягиваю, чуточку их надорвав. Теперь он подвизгивает себе фальцетом, именно так проодеколоненная полость его глотки осваивает переливы завещанного ему предшественником альпийского дрожащего йодля.
— Мало ли что-о… — переливает он вниз-вверх, туда-сюда, из пустого в порожнее и назад. — А вдруг что-то. Можете продиктовать, signore? Только, пожалуйста, давайте те, которые понастоящее. И давайте их попроще: только имя и адрес, без этих ваших… речевых украшений, таких дорогих для вас, будто они и впрямь из золота.
Все рогатые пауки вокруг бледнеют от радости, при одной только угрозе услыхать моё имя и адрес прямо тут и теперь, при одном только сейчас приближении их громового звучания они вжимаются в стены: ищут щель, чтобы по обычаю смыться. Руки их трясутся от возбуждения, как же они исполнят мне поддержку? Только скрипач склоняется надо мною, по свадебному его обычаю, что ли… Моё лицо облизывают его девичьи длинные волосы. Я отталкиваю его, начто он мне, что ему тут делать? Ему тут не место, и нечего делать, когда тут я. Я всё делаю сам.
— Что ж вы, не знаете меня, девочки? — выпискиваю, высюсюкиваю я. — Я голод, хе-хе-хе, пожирающая всё живущее мамочка живущего.
— Не жрать ничего, так сам себя сожрёшь, это правда, — замечает Дон Анжело. — Таким способом умереть совсем не сложно.
— Он всё врёт, — объясняет padre, — сатана не может умереть, пока есть грешники, душами которых он питается, вселившись в их тело. Но сатану как раз можно усмирить, если укрепить душу грешника, истощив немного его тело…
— Огнём костра, — дополняет Адамо. — Но у меня сомнения, padre… Перед нами тело не грешника, а грешницы. Зачем сатане такие неудобства, разве он не может подыскать себе тело родственного себе пола, чтобы не испытывать стеснения при вселении? Как-никак, футляр должен соответствовать содержимому, вот, к примеру, скрипка…
— Он и соответствует, — поджимает губы священник. — Содержимое многократно примерено к этому футляру, а вы, чтобы и вам, наконец, убедиться, можете ещё раз примерить своё. У сатаны вообще нет пола, его лишили пола, или, что то же, он обоюдопол, вам ли этого не знать. Так же, как и человек в целом, но только все непосредственные дети Божьи — мужского пола, это засвидетельствовано письменно, а опосредованные — женского. Имеющие глаза прочтут, если уши заткнуты серой и не слышат голоса вслух объявившего об этом их Отца.
— По слухам как раз и известно, что первоначально всё в природе было женским, — упорствует еретик Адамо. — И только потом, в жизненном развитии, по мере окультуривания часть её отпала от женского, отмерла от первоначально единой жизни и стала мужским. В это нетрудно поверить, достаточно было глянуть на мою… нашу пациентку, когда она явилась. Благодаря культурному развитию, её уже нелегко было причислить к женщинам. Но вот теперь, кажется, всё возвращается на свои исходные позиции. Может быть, благодаря истощению, тогда вы правы…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Тарантелла»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Тарантелла» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Тарантелла» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.