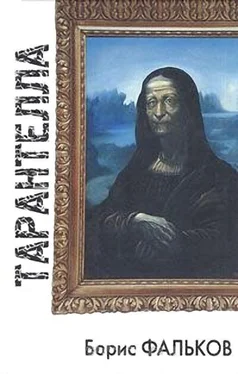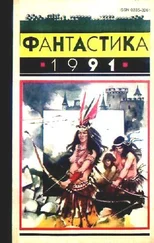А устроенное им действие продолжается, длится. Разверзается глухая крышка над сценой, прорываются окутывающие её двуцветные пелены, обнажаются язвы небес, входы в их бездонные недра. Надрываются на них и расходятся лохмотья их предохранительной плевы, высокого тумана, но нарастают на язвах свежие, молодые, не затуманенные ничем небеса. Ведь не старчески-горчичные фонари, совсем другие соффиты прорывают плеву: острые золочёные рога юного месяца. В прорывы проваливается и опускается к земле, и нависая над нею — качается, царапая плиты площади, разбухшее от молока золотое вымя ночи, с алмазными гранёными сосцами, с чёрными радугами вокруг них, усеянными наполненными светящейся жидкостью пузырьками: звёздами. Переполненное вымя вибрирует, во все стороны по нему ходят волны, раскатываются громы мычания. Небесная корова, порхающая мать мира, вполне приготовлена к дойке. Уже готова она пролить на землю своё полыхающее золотистыми зарницами жира молоко.
Наверное, как раз для такого случая застывшему у порога гостиницы телу заранее придан нелепый зонтик. Можно назвать этот случай простой майской грозой, событием вообще-то тривиальным, и лишь для этого места необычным. Но ведь не только случай в этом месте, но и само место создано для этого случая. Но ведь и молнии, на которые небесная корова ночь отвечает эхом — своим громовым мычанием, исходят не от небес, озаряемых лишь отблесками молний, их ослабленным эхом: зарницами. Они не ударяют послушно в зонтик сверху, привлекаемые этим молниеотводом, а рождаются под ним, привлечённые небесами, призванные отсюда — туда. Они исходят, извлекаются из стигматов застывшего на пороге гостиницы в позе arabesque тела с зонтиком в правой руке.
Поза вполне каноническая, если не замечать усложняющего её элемента, размашистой вибрации: левая рука, сжимающая и ключи от взятой для этого случая напрокат машины, раскрывает и закрывает шляпку зонтика. Её тряпичные поля энергично взмахивают и опускаются, снова взмахивают, и снова опускаются, как крылья огромной бабочки, пытающейся взлететь. При каждом взмахе с крыльев осыпается не успевшая затвердеть пыльца, а по давно затвердевшей её основе разбегаются скрещивающиеся трещинки, выявляя первичное, чешуйчатое её строение. Хрупкая первичная материя, из которой сделаны крылья, не выдерживает нагрузки. Чешуйки отваливаются, обнажаются на их месте сквозные язвы: прорванные в материи дыры, окружённые венчиками лохмотьев. Окружённые лохмотьями ресниц, открываются на крыльях зонтика десятки немигающих глаз. Рвутся связки, крепящие крылья к костям их хрупкого железного скелетика. Его кости сгибаются, надламываются суставы.
Волны периодического напряжения, пробегающие по мышцам зонтика, передаются и мышцам держащей его руки, и всему телу, которому принадлежит эта рука. На призыв зарниц, периодично переливающихся между так же прорванной кожей и скелетом этого тела, придвигается к его глазам вплотную спереди и чуть слева, по диагонали, опущенной из восточного угла неба для нисходящего сюда будущего, вся ночь. По мере придвижения к источнику зова вырастает она, выходит за пределы зрения — но и погружается в него, надвинувшись — тонет в нём. Вмещается в зрение вся без остатка, вселяется, пресуществляется в него.
С иной стороны сцены — сзади и чуть справа, из портала гостиницы, на ожидающее у порога тело с той же скоростью, но по другой диагонали, надвигается приезжий из своего дома, из своего угла на севере папочка. По пути вниз на юг чуть откачнувшись к западу, он набегает сюда из западного угла земли, от закатного за этот угол прошлого — на теперешние берега, обхватывает лапами бока встретившего его тут тела, прилипает грудью к его лопаткам, пахом прижимается к крестцу, сжимает пальцами подвздошные кости. Притискивает к себе его, полное ожиданий, неотличимых от упований и надежд. Папочкин выставленный вперёд рог направлен в сердце настигнутого тела — но удар потрясает и его самого. Из ничего сотворённый плод распирает соединённые чрева обоих тел, затвердевает, проваливается в подвздошные ямы, проминает лонную кость и сжимает предстательную железу, распирает вход в малый таз… Обнимемся крепко, до боли, станем мы — о, да: приезжий папочка умеет причинять боль. Его и узнают не по имени, по одному лишь приближению боли. Мёртвое прошлое всегда отыскивает среди живых своих будущих мертвецов, чтобы пока они живы — успеть причинить им боль. Сыскал своё и приезжий из него папочка. Но это всё, что умеет, что он может сделать сам, без меня. Да и ищут теперь, и ожидают тут не его, он и сам это знает, с того и начал свой выход сюда: не ждала. Это верно, прошлого не ждёт никто.
Читать дальше