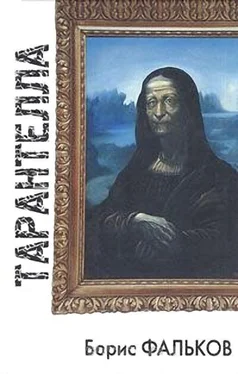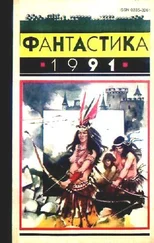— Я говорил, оно пройдёт. Как колыбельная песня, люли-люли… и в один прекрасный миг — фью-ю, всё вокруг темно. А дальше что? Снова бежать?
— Да-да, снова на свет! Где-то ещё светится, туда и снова бежать. Не так, как в этом твоём засушенном раю, где всегда ночь, даже и среди бела дня. Куда дальше? Потом будем решать. А сейчас — бежим отсюда. Не трать времени на сборы, возьми зубную щётку, и всё. Побежим голые, как и принято бегать. Только скорее, пока они не вошли сюда. Не раздумывай долго, они уже тут!
— Значит, бежать из-за них… Тогда это не побег, это изгнание. Но куда мы сейчас — наверх, ещё дальше на север, к твоему папочке?
— Нет, туда нельзя! Там всё… давно кончено, никаких надежд. Там для нас нет будущего. Побежим дальше вниз, на юг, нет, на восток… Но это и не важно — куда, не важно даже — откуда, важен сам бег! Остановка, задержка и дление одного и того же, это смерть.
— Всегда бежать, это тоже дление одного и того же…
— Жизни! Побег — это освобождение от смерти. Не знаю, дана ли нам свобода, но оcвобожде-е…
Её реплика плавно перетекает в жалкое, нерасчленённое на отдельные звуки скуление. Такое воздействие оказывает на неё тройной стук в дверь. Она вырывается из рук Адамо и забивается под конторку.
— Пожалуйста, отдай мне «Беретту», — выскуливает оттуда она, — она… служебная. Или пристрели меня сам, скорей!
— Будешь уезжать — верну, — обещает он.
— Так мне и папочка говорил, когда отобрал у меня балетные тапочки: пойдёшь на бокс — верну.
В короткой паузе она зловеще сопит носом и после этого продолжает быстрей, захлёбываясь рваными фразами, только чтоб успеть.
— Зачем ты врал, что твой папа купил этот дом? Всем известно, он всегда принадлежал вашей семье. Учти, я всё знаю про твоего папашку… И про твою прабабку, и про так называемое родовое проклятье, за которое вы все и наказаны наследственной болячкой. В цивилизованном мире этот принятый в вашей семейке обычай называется иначе: инцест. Но тоже наказывается, по суду, понял! А про тебя самого я знаю больше, чем всё. Ты понял? Я говорю о несовершеннолетней твоей сестрёнке, которую ты прячешь в комнате наверху, под замком. Значит, ты теперь просто обязан быть на моей стороне. Предашь — всё расскажу…
Стук в дверь, вдвое сильней и длинней прежнего, прерывает и эту фразу.
— Открыто! — вскрикивает Адамо и пригибается к столу, прикрываясь бруствером конторки, чтобы вошедшие не сразу его обнаружили. Осталось ему теперь только смыться в какую-нибудь щель. Да он так и сделал бы, только вот боится нападения и сзади, не решается подставить горбатую спину ей, своей партнёрше.
— Что ты можешь знать о семье и родине, бродячая сучка без рода и племени? — шипит он в её сторону, себе подмышку. — Мой бедный папа переехал сюда, на семейную родину, потому что… устал ждать. Никто не знает, с кем из нас это случится, и когда. Незнакомые с этим люди полны суеверий, они… жестоки, как ты. А здесь все как-то уже привыкли…
— И так добры! — сокрушённо, ай-я-яй, качает она головой в своём убежище. Их разделяет только столешница, на которую он налегает грудью. — А та, которая по слухам звалась Лилит, зачем сюда приехала, тоже устала ждать?
— Лючия приехала со мной, своим мужем! И через месяц с папой это случилось, хотя до тех пор за всю жизнь — ни разу, и виновата в этом она! Разве не случилось это и со мной, когда она устроила мне сцену? Не я ей — она мне, хотя это я узнал, что она с этим мерзавцем… Что они с этим пошлым брадобреем… У неё были козыри, и она ударила ими: до свадьбы я не рассказал ей про свою… про наше несчастье. Она сказала, раз так, у неё есть право на любую связь, с кем угодно, с любым скотом!
— Бедная Лючи-ия, муженёк завёз её в свою деревню и запихал к скотам, в хле-ев! — напевает она на мотив «Санта Лючия», уткнув лицо в колени и раскачиваясь всем телом, всё то время, пока ей рассказывают о своих несчастьях. Правое плечо ударяет в фанерную стенку, левое — в колено Адамо. Похоже, она не слышит этих ударов, как, впрочем, и длящегося его шипения:
— И тогда это и со мной случилось… Она настояла, чтобы меня отправили в Potenza, в больницу, ведь у меня от падения треснула бедренная кость. И ещё я сломал ребро, ударившись о шкаф, у меня его потом удалили… А она, пока я был в больнице, исчезла отсюда, никто не знает — куда. Двадцать лет о ней ни слуха, шляется, наверное, по миру, как ты… Можно подумать, глядя на тебя, это она вернулась. И отлично, и поделом мне, глупцу, что всё стало на своё место: мне следовало знать, что шлюхам и подобает шляться, туда-сюда. Что им ещё делать?
Читать дальше