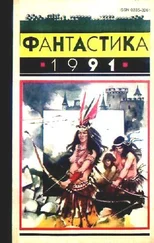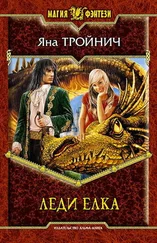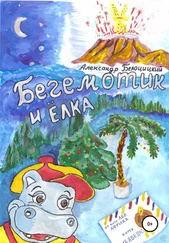Ба всецело положилась на волю счастливого случая, и они быстро поладили.
— А, бросьте, кому это интересно?
— Мальчику его лет…
— А вот пусть идёт со мной. Я знаю, что нужно мальчикам. Да и вам не придётся…
— Но… если мы опоздаем к основному номеру?
— Нет, не опоздаем. Я ведь знаю их программу. Мы успеем.
— Ну, что же, здраво рассуждая…
Вот, вот они, вечные результаты здравых рассуждений: меня вручили Жанне, под защиту её-то здравого смысла! И она потащила меня к шатру, к бочке, в чьём чреве уже завывали моторы. Я не сопротивлялся, к чёрту мокрых кошек! Ба осталась далеко позади — прекрасно! Я понял, что какое-то время буду пребывать в жанниных руках, в прямом, не в переносном смысле. А что может быть лучше этого? Никаких сожалений по поводу несостоявшегося зоологического раздела нашей экскурсии. Откуда бы им взяться? На весах сожалений чулки со стрелками перетянут весь курс зоологии. Что там — звери, я сразу позабыл и o Ба.
Жанна подтащила меня к лесенке, и мы едва успели забраться на смотровую площадку, как со дна бочки повалили клубы выхлопного дыма. Моя бедная головушка тут же погрузилась в странный дурман. Я всё видел и слышал, и даже что-то понимал, но был ли то я? Это вопрос, that question. Так и поныне, я и теперь спрашиваю себя, когда вдруг чую этот запах или слышу похожий грохот: а я ли это? И даже когда не слышу, не чую.
Газ был сладок и горек. Жанна обняла меня обеими руками, кепка надвинулась мне на глаза и я снял её. Мой наголо стриженый затылок прижался к жанниному меховому животу: подталкивая им, она придвинула меня к барьеру. Мой подбородок лёг на него, он был как раз мне по росту. Мех шубки обложил мне затылок и уши, даже сквозь его толщу голову грел жаннин живой живот, кулибки лучше этой не состроить. Я осторожно заглянул вниз… И отшатнулся: очень близко, рукой подать, подо мной была макушка ребристого танкового шлема, обтянутая кожей мощная спина и чуть подальше — пупыристая резина мотоциклетных колёс. От неожиданности и близости всего этого зрелища я принял его как бы на свой личный счёт.
Стоящая на середине арены девушка в простом прямом пальто запрокинула голову и помахала рукой. Я было принял и это в свой адрес, но живот Жанны заходил волнами, и ошибка прояснилась. Жанна махнула в ответ и я тут же вспомнил, что и раньше видел эту стоящую внизу девушку, как раз вместе с Жанной, то ли на улице, то ли в парке… Я даже вспомнил, как её звали: Ася. Ася Житомирская, да, тоже одноклассница Ю, никогда не бывала у нас дома, на неё не распространялась снисходительность Ба. Что-то там было неладно с репутацией. Итак, Ася махнула рукой, и будто столкнула этим жестом с места мотоцикл. Он взревел и стал описывать ускоряющиеся круги вокруг неё. Затем переднее колесо вспрыгнуло на трек и уже в следующий миг мотоциклист катился по стене крутого колодца, повёрнутый ко мне не макушкой — профилем.
От такого фокуса у меня закружилась голова. Жанна стиснула мои плечи, и голова закружилась вдвое быстрей. Мотоциклист, прямо подо мной, сидел неподвижно и небрежно, казалось, и сама машина стоит, или висит, подвешенная к невидимой скобе на стенке бочки. Он уже никуда не ехал, сидел, развалясь, как в кресле, и был его деталью: ручкой или спинкой. Та же сталь, кожа и стекло. Лицо с огромными жабьими очками — второй глаз машины, еще одна фара. Я был намертво зажат между животом Жанны и этим лицом, между наездником и кобылкой, связь которых была непререкаема отныне и навсегда. Их связь был я, и я понимал это так чётко, что казалось — давно. Понимание окутывало меня плотным горько-сладким туманом, больше горьким, чем сладким. Как во сне, входящем в другой сон, как в двойной кулибке… В центре арены стояла Ася, поглядывая в нашу сторону. Само собой стало ясно, что это она продавала билеты у входа в бочку. Само собой, но с запозданием, как в том же сне, в той же кулибке.
Бочка дрожала и качалась, она вполне могла развалиться. Возможно, поэтому наездник вдруг оказался сидящим задом наперёд, спиной к рулю. Я не поверил ему, и даже усмехнулся, осознав и это. Так осознаётся сон, вдруг понимаешь, что спишь, и в следующий миг с той же усмешкой уже сидишь рядом с наездником, и летишь вместе с ним по кругу. А он теперь сидел в седле боком, свесив ноги в пропасть, на дне которой стояла Ася. А она поднимала ему навстречу руку, иногда — обе. Рёв и дым смешались в одно, впившиеся в поручни мои руки закостенели от напряжения. Сегменты трека прогибались под иногда наезжавшим и на них колесом, и со скрежетом становились на место, с трудом сдерживая накатившую мощь: щели между ними становились, казалось, раз от разу шире. Повизгивали болты, измолотая в порошок ржавчина прыскала из пазов. Теперь-то я знаю, что именно в гибкости конструкции заключалась её стойкость, но тогда, когда это летание по кругу столь очевидно стремилось к гибели, к неизбежному трагическому: ах! — и как прелюдия гибели, уже теперь слышалось ритмическое ах-ах-х! когда машина взлетала к самому краю бочки, к публике, к Жанне… Ах! вся публика голосом Жанны, когда мотоцикл выскакивал за бесконечно разматываемый круг и переднее колесо, подшаркивая, вылетало за поручень руки! уберите руки! — и железно-стеклянное лицо наездника гляделось в искривленные аханьем лица публики, и прежде всего Жанны. Он повисал в мёртвой точке и ухал вниз, и снова вписывался в прежнюю орбиту. И снова жаннин меховой живот, и мой горячий затылок.
Читать дальше
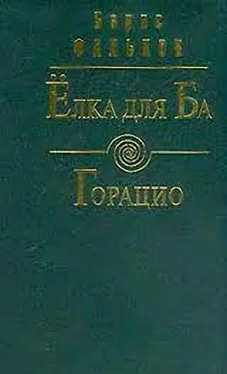
![Антонина Клименкова - Ёлка Для Вампиров [СИ]](/books/35141/antonina-klimenkova-elka-dlya-vampirov-si-thumb.webp)