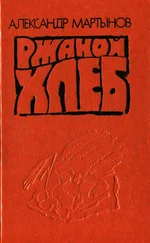— Увис, я первый раз вижу тебя таким.
— Каким, Ирида?
— Ну, таким хрупким, как пчелиное крылышко.
Над ними пролетел аист, неся в клюве корм.
— Не знаю, сколько мне было лет, запомнил только, что аисты мне по ночам снились, — сказал Увис, проводив птицу взглядом. — Говорят, я вскакивал во сне и плакал: «Куда денутся аисты?» Отец менял старую щепную кровлю. Покрывал ее распиленными на пилораме дощечками. Сдерет слой щепы, набьет слой белых дранок, и так слой за слоем. Поднимался он на крышу утром по возвращении с луга и вечером, когда все дневные работы были закончены. На коньке крыши было колесо, а на нем — гнездо аистов. Новые слои мало-помалу приближались к птичьему жилью. Вначале я не подумал, что аистам грозит опасность. Но когда отец добрался до середины крыши, до меня дошло: нельзя заменить щепу, не порушив гнездо. Большие аисты, положим, улетят, но что будет с птенцами? Я задал этот вопрос отцу. «Сын, но крыша-то течет». Я не догадался спросить, почему нельзя сменить ее зимой или почему нельзя прибить дранки, когда птенцы подрастут и научатся летать. Новая крыша поднималась все выше и ближе к гнезду. По утрам, чуть только разлеплю глаза, я бежал смотреть, стоит ли гнездо, вечером перед тем, как лечь спать, снова поднимал глаза наверх. Беспрерывно спрашивал, куда денутся аисты. «Сын, но крыша-то течет». Только много позже я понял, почему отец мучил меня, почему заставлял просыпаться среди ночи. Он хотел, чтобы я испытал в полной мере боль сострадания.
— И чем это кончилось?
— Остался последний слой с гнездом. Я глядел на него утром и вечером. Работа остановилась. И только когда аисты улетели в теплые края, отец снял колесо вместе с гнездом и, заменив оставшийся слой новым, опять водрузил на прежнее место. После того, как мама переехала к нам, дом развалился — и аисты перебрались на трубу.
Ирида и Увис обошли все кругом и возвращались на место бывшего дома с противоположной стороны. Деревья в аллее закрывали двор и кирпичную трубу. Но ребята уже заметили родителей. Понеслись напролом сквозь кусты и высокую траву, крича издалека:
— Идите скорее сюда!
— Мы вам покажем чудо!
Леонард запыхавшись делился новостью:
— Людвигу повезло!
Людвиг кулачком бил себя в грудь:
— Я — чемпион!
Ирида с Увисом вошли во двор. В гнезде лежал аист. С застрявшей стрелой. Голова свисала через край гнезда.
Второй аист кружил в воздухе вокруг разрушенного дома.
Маленьких аистят снизу было не видно.
ДУБ, ПРОСТОЯВШИЙ БЕЗ МАЛОГО ПОЛВЕКА
Вчера умер старый Аншлав, первый послевоенный парторг в наших местах. Лигия, разбирая документы мужа, наткнулась на адресованное мне письмо:
«Секретарю парторганизации колхоза. Открыть после моей смерти».
Лигия стояла и ждала. Я разрезал конверт. Вынул шесть мелко исписанных страниц, вырванных из школьной тетради в клеточку, и начал вслух читать:
— «Завещание. Когда я умру, спилите дуб, что растет в центре напротив детского садика. Я знаю, в поселке нельзя трогать ни одного дерева, знаю, это противоречит законам об охране природы. Но я его посадил, и я прошу спилить. Думаю, больших неприятностей моя просьба вам не причинит. Дуб растет триста лет, триста лет мужает, триста лет умирает. Так что причислять моего к великанам нельзя. Чтобы меня правильно поняли, расскажу коммунистам, почему его посадил и почему прошу спилить».
Я прервал чтение. Вдова Аншлава поняла. Спросила лишь:
— В завещании только о дереве сказано?
Я пробежал глазами по страницам. Других пожеланий не заметил.
Лигия ушла. С ясным сознанием, что каждому рано или поздно суждено умереть и что для Аншлава, дожившего до восьмидесяти лет, это время пришло своим чередом.
Когда она зашла ко мне и сообщила печальную весть, я выразил ей соболезнование. Вдова — ей самой уже перевалило за семьдесят пять — поблагодарила меня, но, чтобы я не слишком расходился, вежливо заметила:
— Два века не проживешь.
Аншлав был честным коммунистом. Всю жизнь проработал на тракторе. Построил дом на центральной усадьбе, поставил на ноги троих детей. С женой прожил в ладу и согласии.
В вопросе Лигии, только ли о дереве говорится в завещании, было больше удивления, чем любопытства. Мне даже послышался упрек: на кой вообще такие завещания, если остаются жена, дети, а в жизни все шло путем, как положено.
В должности парторга я состою седьмой год. Каких только дел мне не приходилось распутывать. Но завещание покойного было столь необычно, что я растерялся. Аншлав излил душу на шести страницах, заклеил конверт. И теперь этот конверт у меня в руках. Читай, секретарь восьмидесятых годов, исповедь парторга первого послевоенного лета и решай — что делать с дубом.
Читать дальше