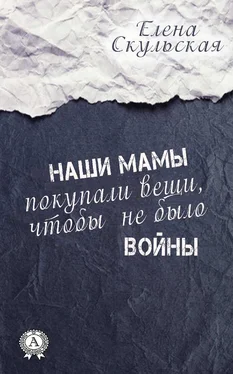Он заявил, что выскажет им всю правду через Шостаковича. Прокофьева, значит, оставил в покое, а взялся за Шостаковича. Ну и понес, понес, что, мол, у Шостаковича непризывное, комиссованное плоскостопие нот. И наши мамы его любили по-тыловому. У него сплюснутые ноты; их можно было подсунуть под дверь, да они сами туда проползали по-пластунски, зажав в зубах подпольную чеку звука, грохались, прокатывались, их можно было свернуть трубочкой и засунуть в уши, проткнуть ими барабанную перепонку в клаустрофобию глухоты, чтобы уже не могли настичь раззевавшиеся мегафоны, плиссированные патефоны, липкие улитки валторн, пожирающие тянущийся смысл; а девки в деревнях после войны, когда запрещены были аборты, несчастные девки запихивали в себя, как хмель в подушку, такие длинные черенки нот, чтобы вызвать выкидыш. Это правда, наши мамы не хотели нас, им пожить хотелось, аборты были запрещены, отцам нашим очень хотелось после войны детей; да, высохшим черенком его ноты можно проковырять замочную скважину у себя на груди и верный калибр прижать к ней… Неровные края перекатов Шостаковича — словно прищемленный подол, и вырываются с ситцевым треском; бетонные корыта общественных прачечных щелоком выщипывают его слезы. «Моя Марусенька, танцуют все…»
Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны. Длинное блюдо с бортиками, на дне которого была нарисована нарезанная селедка с зелеными фонтанчиками лука из вынутых глаз, а у другого блюда в ногах и головах были диванные валики, и на дне у него был нарисован сыр с крупными потными дырочками; было совсем маленькое, почти и не блюдо, а так, вытянутое блюдце с одноглазой килечкой, плоско, по-плацкартному устроившейся на дне; еще было много сервировочных — это чем брать то, что кладется на блюдо в соответствии с рисунком на дне — трезубцы, полумесяцы с режущими краями, крошечные половнички со свернутыми набок утиными носами; варили холодец, и дети в чесночном, прачечном, дымно-влажном, пухлом, сытном угаре сзывались обсасывать кости; мозговые выбивали о тарелку, намазывали на хлеб и солили; при детях рассказывали страшные любовные истории, маскируясь и запутывая следы; например, говорили: «А он тогда поехал к ея сестре» и делали ударение на «ея», которое дети не понимали; жили компаниями — любили слова «анчоус» и «кабачок», но никогда не клали в салат «оливье» вареную морковь, не делали селедку «под шубой» со свекольными залежами, припорошенными сыпью мятых яичек…
Им всегда было нечего надеть, зачем мы только вышли из гоголевской «Шинели»?!
Правда, я уже сознавался, иногда я попадал невольно под его влияние. Ну да Бог с ним, я занятой человек, не так-то часто мы с ним и видимся; на мне отдел происшествий нашей уважаемой газеты «На краю», на мне путеводитель по нашему городу, пусть он сам справляется со своей жизнью. Ну, он и написал свою книгу о наших мамах, которые покупали вещи, чтобы не было войны. Я прочел, как уже говорилось, первую фразу, она мне даже понравилась, не похоже, во всяком случае, на ту абракадабру, которой он всегда старается нас унизить. Он мне сказал, что в книге у него действует писатель, то есть он сам — один к одному. Только ничего этот писатель не действует, а тоже пишет ту же самую книгу о наших мамах. Книга поступает в магазины. Долго лежит без движения. Год. Не тронут ни один экземпляр. И вдруг в течение восьми дней ее покупают восемь человек. И тот писатель решает разыскать всех восьмерых, чтобы поговорить с ними. То есть понять, нужна его книга людям или не нужна. Если не нужна, то прав я: нужно писать о том, что людям интересно и понятно, и даже приятно, а не то, что в голову взбредет. А если нужна, то прав писатель: писать нужно только о том, что хочется, случайно писать, как Бог на душу положит.
Ну, разыскать в нашем городе человека совсем не трудно. Город у нас маленький и уютный. В нем очень много ресторанов и кафе. Мы с писателем обычно встречались в кафе, построенном в виде корабля, застрявшего в балтийском редколесье. Нам это нравилось, наши отцы были моряками. Штурвал походил на поминальный венок с запахом хвойного усердия. Там писатель и рассказал мне о тех восьмерых. Что хочет их найти и окончательно решить наш с ним спор. Ничего другого ему в жизни не оставалось, я согласился. И даже взялся ему помочь найти всех восьмерых.
Один экземпляр купила красавица, похожая на черную цесарку со вздернутым и распущенным хвостиком, с балетной поступью тоненьких ножек, а перья и грудка нависают над тоненькими ножками, как балетная пачка, а на лбу ошметки черной челки. Второй экземпляр купил органист из крематория. То есть не совсем органист, а тот, кто нагнетает воздух в меха органа; он опирается руками о деревянную перекладину и стучит, стучит ногами, обутыми в деревянные лыжи. А жена его в это время заливает водой пол в зале, потому что органу нужен влажный воздух, а иначе лицо его растрескается и старость иссушит его дубовые каменные бока. Третий экземпляр купила хозяйка, живущая разведением крохотных рыжих собачек, похожих на говорящих опят, на грибят, облепивших ее, как пень в лесу. Четвертый — семилетний мальчик, enfant terrible, пытавшийся выковырять глаза пьяному бомжу, а если не выковырять, то хоть проткнуть их, как пчелу. Пятый достался экскаваторщику; он так любил свой экскаватор, что всегда подвозил его после работы к дому и только там прощался с ним до утра, а экскаватор всегда задирал на прощание ковшик на манер примата, хотя он был гораздо умнее. А шестой купила девушка по кличке Глазунья; она вся была нежно-желтого, янтарного цвета, и ее груди поднимались двумя теплыми маленькими глазуньями. Седьмой достался мебельщику, специалисту по мягким тканям и сиккативам — не было случая, чтобы он привез заказчице ладно натянутую свою работу, а она бы не предложила ему опробовать ее вместе. Восьмой экземпляр купила поэтесса, стихи которой писателю очень нравились; одно он даже переписал и на всякий случай оставил на своем столе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу