Ни в коем случае нельзя было позволять себе думать — вот они тут, пока мы там… Это было невыносимой пошлостью, предсказанной еще отцом Николаем в монастыре, и Громов не стал сравнивать свой быт с местным. В конце концов, не за то ли он воюет, чтобы дети в Москве были спокойны, а женщины красивы? На беду, ему не встречались ни спокойные дети, ни красивые женщины. Дети вообще подевались незнамо куда (лето, все в лагерях или на дачах, или дома, прилипнув к мониторам). Женщины были то крикливо размалеваны, то замордованы до полного безразличия к себе и миру; середины не осталось ни в чем, все стеклось к полюсам, да вдобавок полюс нищеты был замаскирован, спрятан с глаз долой, чтобы ничто в центре города не напоминало его счастливым обитателям о бывших соседях. Главной чертой этого поляризованного мира стало полное неумение противников сосуществовать. Прежде и ЖД как-то уживались с русскими, хотя и без особой любви; прежде и богатый терпел рядом бедного, не торопясь высылать его из города; правда, и бедный был не настолько зловонен, как васьки в последнее время. Их не сразу стали выбрасывать из городов — поначалу пытались воспитывать, даже раздавали на руки состоятельным семьям,— но вскоре любое воспитание стало казаться анахронизмом. Мир отчетливо разделился на крайности, а крайности не бывают хороши. Так началась война с хазарами, так же, видимо, воевали и с бедностью — на истребление. Вела ли бедность ответные боевые действия, Громов не знал: вероятно, у нее не хватало сил. Хотя кто знает, не копятся ли по окраинам эти самые силы, удесятеряемые отчаянием, и не собираются ли в отряды новые партизаны… Будь громовская воля, он не смирился бы так просто с этим вытеснением,— но таких, как Громов, больше в Москве не было. Повинуясь стратифицирующему закону войны, ее гигантскому сепаратору — предвестнику последних времен,— Громов отправился в армию, где и надлежало быть человеку с правилами, а прочим бедным не хотелось никому мстить. Им хотелось быть богатыми, а из долгого опыта своей и родительской жизни они уже понимали, что это у них никогда не получится. Революции делаются не из желания разбогатеть — для них нужно представление о справедливом мироустройстве, а новые бедные были так бедны, что у них не было никаких представлений. Их вполне устраивало существование на своем полюсе. Да богатых и подталкивать было не нужно — они постепенно съезжали отсюда сами. Одни вымирали, другие эмигрировали, третьи и четвертые убивали друг друга на войне — земля медленно очищалась, как и всегда бывает с территориями, которые никто не ощущает своими.
Клуб размещался теперь в здании бывшего арбатского гастронома, где Громов ребенком часто покупал пирожные и виноградный сок. Он любил зайти сюда летом, среди жары,— тогда еще они жили неподалеку, он часто бегал в арбатский «Букинист»,— любил прохладу гастронома, серо-мраморный пол и огромные прозрачные конусы сока. История похожа на этот конус — когда сока в нем еще много, на его поверхности возможны какие-то колебания и сотрясения, а когда в конусе почти ничего не останется, всей поверхности — крошечный пятачок; конец света всегда происходит в масштабах того самого света, который кончается, и потому катастрофа оказывается жалковатой. Многие не замечают ее вовсе. Громова не хотели пускать в литературный клуб. Мордатый охранник добродушно пояснил ему, что люди сюда ходят отдохнуть от войны, сами понимаете (словно все остальное время они только и делали, что рыли окопы на подступах к Москве, где-нибудь в Химках),— и Громов, выругавшись про себя, повернулся было уходить, но откуда-то из глубин клуба выпорхнул Лузгин, друг былых игрищ и забав: он схватил Громова в охапку, закружил, что-то шепнул охраннику и увлек отпускника в зал.
Тут все было как в прежнем помещении, в районе проспекта Мира,— те же красно-зеленые рыбы по стенам, грубо намалеванные кактусы, заросли, водоросли — подводная прерия; вероятно, намек был на то, что весь мир пустыня. Играла та же невыносимо легкая музыка, которую Громов запретил себе слушать уже давно, и даже стоя у входа в клуб, препираясь с охранником, он запрещал себе слушать доносившиеся до него, страшно знакомые звуки. Это были песни времен романа с Машей, да что там — он знал их и прежде, ведь читал здесь когда-то, бывал, выпивал с тем самым Шуриком, который и теперь наяривал «Питерскую»… Эту музыку он любил, и эта любовь оказалась прочнее всех.
Он любил тех, кто не цепляется за жизнь, а эта музыка не цеплялась. В ней была легкость. Может быть, она лгала, и тех мальчиков и девочек, о которых пел Шурик, давно не существовало. Может быть, никакой богемы не существует вообще, а есть тесный кружок завистников, нетерпимых к чужому успеху,— но песни, которые слушал Громов в «Венике» (Бог весть, почему так назывался этот литературный кабак, где главным блюдом был дешевый салат с пучком петрушки — именно что веник), были об этих самых весельчаках, живущих так легко, ничем не дорожащих, таких кукольных, таких хрупких. Громов никогда таким не был, но всегда к таким тянулся. В совершенной чистоте все эти черты были явлены в одном Шурике — вечном мальчике-одуванчике, тонком стебельке с кучерявым шаром шевелюры; Шурик, кажется, узнал Громова и кивнул ему, как кивал всем. Ему уж подлинно было безразлично, кто пришел его слушать. «А-адна такая девочка ходила по бульвару» — летние вечера, пыль, дворы, огромные старые московские квартиры…Всех расселят, переселят, выставят, никого не оставят.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







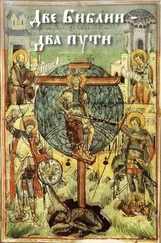


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

