— Я тебя так вывезу, что никто не узнает.
— Каким образом?
— Неважно, найду, придумаю. Я ведь все-таки из местных, меня тут все слушается, включая удачу. Приходи завтра, все придумаем.
— Приду, если смогу. Но учти, ничего придумывать я не намерена. Я останусь со своими — по крайней мере, пока смогу.
— Не вздумай вытравлять ребенка!— еле слышно запретил Волохов.
— Не вздумаю,— кивнула она.— Это у нас не принято. Но насчет тихой семейной жизни в Москве ты все-таки не обольщайся. Я — ЖД и всегда буду ЖД.
— Хорошо, я потерплю.
Ему вдруг стало невыносимо жаль ее. Он понял, куда она возвращается. Она возвращалась в ту самую вертикальную иерархию, которая не знала уже никакого сострадания, в торжество имманентных ценностей, где правил голос крови, тот самый вживленный чип. У варягов были еще хоть какие-то критерии — они ценили во враге отмороженность, замороженность, завороженность… У хазар критерий был один: наш — не наш. И не наш, обладай он всеми добродетелями, о необходимости которых так долго говорили хазары любого призыва, никогда не мог удостоиться одобрения: верно, только так и мог выжить народ, который все истребляли,— но ведь этот народ, как отлично знал теперь Волохов, подставлялся под истребления и нарывался на них только для того, чтобы тем безжалостней мстить от имени истребленных. Частью всего этого была Женька, и то, что при всем своем ЖДовстве она была человеком,— становилось главным залогом ее будущей гибели. Да еще она и беременна теперь — нет, уводить, только уводить.
— Жень, а ты не могла бы уйти со мной? Пожалуйста?
— Давай лучше ты уйдешь со мной. Я как бы захватила командира летучей гвардии. Он чапал тут огородами морковку воровать, я схватила его за морковку и привела в штаб. Давайте все, товарищи, посмотрим на живого варяга.
— Я не варяг, ты знаешь.
— Это ты себе придумал, чтобы не казаться захватчиком. Очень понятный психологический трюк.
— Слушай, я серьезно говорю. Тебе же так и так скоро нельзя будет там находиться.
— Не беспокойся, я найду убежище.
— В Европе? Типа у коллег?
— Нет, отсюда я никуда уже не денусь. Я дождалась дня, это моя земля, и я с нее не уйду.
— А, понятно. Ты дождешься вашей полной победы и примешь меня в семью, но только в качестве угнетенного. Дворецким назначишь? Или сразу в дворники?
Она хотела влепить ему затрещину, но он удержал ее руку.
— Ладно, не дерись, я от тоски.
— Идиот.
— А чего ты хочешь? Ты ведь была и будешь ЖД, сама сказала. Следовательно, можешь меня рассматривать только в качестве потенциального дворника,— нет?
— Да какой из тебя дворник, ты в комнате ни разу не убрал, когда жил у меня…
— Ну, тогда это не было моей обязанностью.
— Если мы победим,— а мы победим,— сказала она серьезно,— я, конечно, буду растить ребенка одна. Ты мне не нужен в качестве побежденного. А ты, вероятно, будешь скитаться с остатками своей гвардии, вынужденно бегая по России, потому что придется скрываться. Иногда будешь забегать ко мне, и мы будем опять урывками встречаться в какой-то бане. Сыну я буду рассказывать, что ты на опасном задании, а дочери — что ты сволочь и вообще все мужики сволочи. Потом ты пробегаешь со своей сворой четыре года и добегаешься до национального сознания. Придешь и убьешь меня, потому что это единственное, что надо со мной сделать. А ребенка похитишь и будешь воспитывать в лесах, чтобы получился Тарзан или Тарзанка. Универсальный мститель.
— Никогда. Я наймусь дворецким в соседний дом и буду тобой любоваться, когда ты будешь ходить мимо… за молоком…
— Когда мы придем к власти, молоко будет течь из крана,— сказала она.
— Господи, как я люблю тебя, Женя.
— И я тебя тоже, Володя.— Она редко называла его Володей, и он боялся, когда это случалось. Он вспомнил, как она прощалась с ним тогда, в каганатском аэропорту; он готов был разнести по бревну жалкую баньку, служившую им убежищем, и сжечь всю эту проклятую сырую землю вокруг, из-за которой они должны были теперь вот так… да и всю жизнь вот так…
— И спросить некого, да? Никто ведь не учил, как теперь со всем этим жить,— сказала она.
— Тысячи людей жили, и ничего.
— Тысячи людей жили до войны. А теперь война, причем, как всегда, гражданская.
— Тоже было. «Сорок первый».
— Нет, совсем другое дело. Там они оба варяги, только разного происхождения. Такое еще бывает. А мы два разных племени, совсем разных, и такое родство… Самое ужасное, что ты ведь тоже выполняешь программу, только не знаешь, какую. Я знаю, а у вас она скрыта. Наверное, такой ужас, что вы можете не выдержать. Что-нибудь гораздо страшнее, чем у нас.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







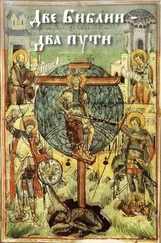


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

