Аньку спасло только то, что на остановке в вагон вошел рослый мужчина средних лет. Он быстро понял, что происходит,— часто, наверное, ездил в электричках,— подбежал к парню, схватил его за шиворот, поднял и без церемоний врезал в челюсть. Парень повалился, но тут же вскочил; новый пассажир встретил его ударом в нос. Парень понял, что дело нешуточное, и побежал; новый пассажир погнался было за ним, но оглянулся — и понял, что помочь Аньке сейчас важней, чем настигать несостоявшегося насильника.
— Цела?— спросил он.
— Цела,— дрожащим голосом ответила Анька, кое-как прикрываясь растерзанным свитером.
— Что ж ты одна в поезде в такое время?— укоризненно сказал пассажир.
— Я не одна,— сказала Анька.— Я с дедушкой.
— Дедушка… Много толку от твоего дедушки!— сказал пассажир, вынимая термос.— На, глотни. Вставай, дедушка. Сам-то цел?
— Я-то цел,— пролепетал Василий Иванович.
— Василий Иванович,— сказала Анька, все еще дрожа.— Выйдем в тамбур…
Васька поплелся за ней. Светало. Рассвет был дождливый, мутный и серый. За окном тянулись сизые капустные поля.
— Что ж ты так, Василий Иванович?— сказала Анька.
Она впервые разговаривала со своим васькой так резко.
— Анечка,— залепетал он,— я потому и хотел один… Одному мне не страшно, а с тобой что хочешь сделают… Что же я могу, Анечка? Я не умею этого, Анечка…
— Это что же,— догадалась она,— мне от тебя никакой защиты, так? Это, значит, мне тебя защищать?
— Зачем защищать, Анечка,— лопотал он,— мне-то что сделается…
— Эх, Василий Иванович,— сказала Анька со взрослой горечью в голосе.— Трудно нам с тобой будет, милый друг.
— Трудно, трудно,— закивал Василий Иванович.— Возвращайся, Анечка…
— Да куда уж теперь,— сказала Анька и пошла обратно в вагон — благодарить нового пассажира и пить кофе из его термоса. Она, впрочем, не забывала оглядываться на тамбур, чтобы Василий Иванович не сбежал.
Он и не думал бежать. Он стоял, прижавшись лбом к холодному стеклу, и беззвучно шевелил губами. Анька ничего не слышала. Она пила кофе из жестяной крышки и со стыдом чувствовала, что не может унять дрожи. Только сейчас ей стало по-настоящему страшно.
— Не одна в поле дороженька,
Не одна колокольная,—
тихонько мычал Василий Иванович, обливаясь слезами.
— Не одна в поле дороженька,
Не одна подневольная.
Не одна в поле дороженька,
Не одна баламутная,
Не одна в поле дороженька,
Не одна бесприютная…
Ну вот, все и поехали. Чух-чух-чух.
Не одна в поле дороженька,
Не одна беспечальная,
Не одна в поле дороженька,
Не одна безначальная.
Не одна в поле дороженька,
Не одна бессердечная,
Не одна в поле дороженька,
Не одна бесконечная.
Конец первой книги.
— Что же спеть тебе?— говорил как бы в задумчивости как бы слепой как бы старец с бандурой в руках. Он сидел на лавке в избе подполковника Лавкина, офицера, блин, ух, какого офицера! Такой офицер. В первый год войны, когда еще стреляли по-настоящему, Лавкин лично расколол на допросах до пятидесяти ЖДов. Сам он был собою контрразведчик. В нем было даже немножко варяжского духу, то есть стрельбе по своим он все еще предпочитал стрельбу по чужим. Были ведь когда-то времена, когда варяги не угнетали, а кочевали и убивали. Годы угнетения несчастного захваченного племени, которое, кажется, не больно-то и горевало по случаю несвободы, испортили варяжство, как портит это занятие любого приличного человека. Одно дело — завоевать, другое — удерживать. Завоеватель может быть и правым, и неправым; в конце концов, шел, увидел, захватил, в схватке оказался сильней — обычное дело. Стоит тебе, однако, сделаться полноправным угнетателем — и ты уже не воин, а надсмотрщик со всеми вытекающими; именно поэтому всякий нормальный солдат ограничивается победой, а добивать побежденных и распоряжаться ее плодами предоставляет другим. У варягов, к сожалению, ничего с этим не получилось. Им так понравилась захваченная территория, что они перестали кочевать и покорять прочие места. Иногда, конечно, им приходилось сражаться с ЖДами, потому что вовсе без этого варяги обходиться не могли; но в их жизни появилось равновесие, а это для подлинного воина смерть. Есть своя земля, есть рабы, которых надо удерживать в повиновении (а они никуда и не рвутся), есть постоянный враг, с которым раз в сто лет выясняешь отношения,— и так оно идет уже полторы тысячи лет; знамо дело, исчезает главное, что есть в битве,— свежесть. Какая свежесть, когда все выродилось? Какими-то своими флюидами их растлил несчастный покорный народ — как рядом с трупом, говорят, охватывает иногда живого странный сон, вялость, нежелание шевелиться. Так русалка сманивает руса — иди, мол, ко мне: спокойно… прохла-а-адно… Что-то в них стало не то.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







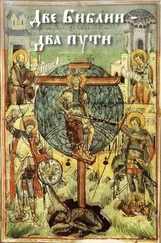


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

