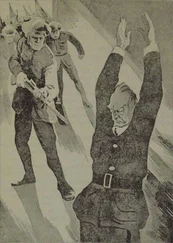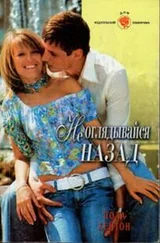«Наверное, переутомился, – решил я. – Ведь от поляны до зимовья будет не меньше трех километров. А сколько раз мне за сегодня пришлось туда-сюда таскаться: то с грузом, то налегке? Вот и вымотался. Надо как следует выспаться. А завтра – наварить побольше мяса, поесть как следует, и всё придёт в норму…»
Всю ночь меня преследовали своей несуразностью невероятные, прилипчивые сны. То мне чудилось, что я сталкиваю на сани при помощи жердины всю тушу лося целиком, вместе со шкурой, но не могу сдвинуть этот груз с места… То – что я загружаю сани понемногу, прекрасно понимая, что при такой раскладке мне не вывезти мясо и за три дня… Пунктиром во всех этих бесконечных, с вялостью движений, снах проступал оживший улыбающийся лось, то и дело взбрыкивающий, поднимающийся на задних ногах, с нацеленными для удара в мою грудь, словно копья, острыми копытами передних ног.
Быстрый, сильный, резкий удар – и верхонки, которыми по инерции прикрыл свою грудь дядя Вася, чем-то растревоживший в загоне лося, красными лоскутьями падают у него за спиной. А сохатый спокойно, как будто ничего и не случилось, отходит в дальний угол загона, оставив лежащим на окровавленном снегу своего кормильца. Он методично и тупо начинает жевать положенные ему минуту назад ещё живым дядей Васей высушенные берёзовые веники, с лета заготовленные «для подкормки копытных».
Лось смотрит куда-то вдаль, за загон, не обращая никакого внимания на переполох. И меньше всего – на нас, практикантов-охотоведов, невольно ставших свидетелями этой мгновенной и нелепой драмы.
И пока сохатый, такой ручной и мирный, такой обычный, почти домашний, продолжает заниматься своим насыщением, парни-охотоведы, с опаской озираясь на него (а ещё вчера каждый норовил, подойдя к загону, погладить зверя), волоком вытаскивают с территории, ставшей вдруг смертельно опасной, безжизненное тело егеря – дяди Васи. Они тянут его за ноги, и он спиной, в своей извечной войлочной куртке, прочерчивает на снегу широкую морщинистую борозду. Последний след, оставляемый им в этом мире.
Тело дяди Васи кажется неимоверно тяжёлым, неповоротливым и неудобным. Таким, каким оно никогда не было при жизни, даже после самых затяжных и беспробудных загулов, когда ноги переставали слушаться хозяина и ему надо было помогать добраться до кровати…
Долгие годы, поняв, что в городе совсем пропадёт, жил он здесь на стационаре для студентов-охотоведов, в ближней тайге. И, видно, на беду свою, от одиночества, приручил уже взрослого лося, который обитал в загоне, как корова, и который вскорости стал любимцем студентов, бывающих здесь…
Лицо дяди Васи, всегда докрасна обветренное, сейчас белее самого белого первого снега. Грудь его пробита насквозь, и окровавленные лоскутья рубахи (куртка, как всегда, была нараспашку) глубоко вдавлены внутрь…
Утром я проснулся весь мокрый от пота и слабый, как младенец, стараясь соединить воедино обрывки снов, в которых реальность так причудливо переплелась с болезненной фантасмагорией.
«Инородный белок попал в кровь, – констатирую я своё состояние. – Надо удалить из-под ногтя теперь уже такой болезненный источник заражения…»
Я попытался иголкой, протёртой несколько раз спиртом, вынуть из-под ногтя микроскопическую косточку и, в конце концов, раскровянив палец, мне это удалось. Залив уже слегка загноившуюся ранку йодом, я свалился на нары, не имея сил даже на то, чтобы сменить влажное бельё.
Где-то к обеду я вернулся в действительность из полуобморочного состояния, наверное, только потому, что меня всего трясло от, казалось, насквозь пронизывающего холода. В нетопленном с вечера зимовье было действительно студёно, да ещё так и не высохшая на теле до конца одежда липла к нему холодными складками. Я вновь, как и утром, когда поставил себе точный диагноз, пощупал подмышечные лимфоузлы. Они увеличились с размеров крупной горошины до маленьких грецких орехов… С трудом, клацая от холода зубами и поминутно боясь потерять сознание, я слез с нар, затопил печь. Поставил на неё закопчённый большой чайник… В аптечке нашёл шприц, иглу и ампулы пенициллина. В старой консервной банке, когда-то начисто вылизанной собакой, прокипятил иглу, шприц, и сделал себе первый укол, опять забывшись гулким сном, вновь не имея больше сил переодеться…
Дней пять, наверное, потом – утром и вечером, всё более и более приходя в себя, я делал себе инъекции то в правое, то в левое бедро. В правое втыкать иглу было удобнее…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу