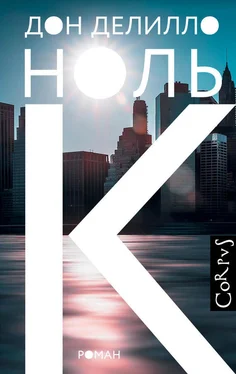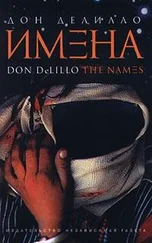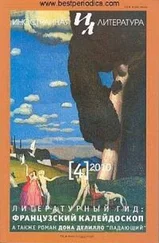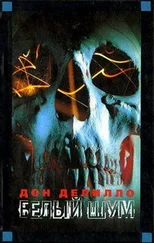Послушать, на каких языках говорят посетители в галереях, – вот для чего я, кажется, хожу в музеи. Однажды следовал за мужчиной и женщиной от Кипра IV века до нашей эры, от известняковых надгробий до самого отдела оружия и доспехов, ожидая, когда эти двое снова заговорят друг с другом – мне хотелось распознавать их язык, или пытаться, или тупо строить догадки. До того, чтоб обратиться к ним и вежливо спросить, я не дошел.
Сижу перед экраном в кабинке из матового оргстекла с надписью “Инспектор по вопросам этики и соблюдения норм”. Я тут вполне освоился – не только в плане повседневной обстановки, но и в контексте методов, которые разработал, чтобы исполнять необходимые функции и приспосабливаться к здешнему языку.
Попрошайка в инвалидной коляске – нормально одет, чисто выбрит, и бумажного стаканчика в пятнах не видно – сунул руку в перчатке в уличный муравейник.
Есть корпоративная карьера моего отца, масштабная, динамичная, есть край жизни – Конвергенция, и я убеждаю себя, что не ищу убежища в жизни, которая есть ответ на все это или воздаяние за все это. А с другой стороны, я навсегда стал тенью Росса и Артис, и покоя мне не дают не их яркие жизни, а характер смерти.
Когда я спрашиваю себя, зачем попросил разрешения ночевать время от времени в таунхаусе, то сразу вспоминаю о доме, где живет Эмма – он, в общем, в той же части города, – или где она раньше жила, и часто прогуливаюсь в окрестностях – ничего не хочу увидеть или узнать, но чувствую некую имманентность, чувствую, как боль утраты переходит в ощущение призрачной близости, и в данном случае, на ее улице, осознаю возможности, которых даже не пытаюсь осмыслить.
Совершая покупки в магазине по соседству, всегда проверяю срок годности на бутылках и картонках. Лезу вглубь полки, где выставлен искомый продукт, и вытаскиваю товар из последнего ряда – там-то и находится самый свежий нарезной хлеб, молоко или хлопья.
Женщины высокие и еще выше. Высматриваю женщину в соответствующей позе на углу улицы – неважно, будет знак на малопонятном языке или не будет. Чего я там еще ищу, чего еще не узнал от неподвижной фигуры посреди толпы? Возможно, ее поза сигнализирует о надвигающейся опасности. Отдельные лица всегда таким занимались, верно? Мне виделось в этом что-то средневековое, некое дурное предзнаменование. Она говорит нам: готовьтесь.
Порой целое утро уходит, чтобы пережить сон, перебодрствовать. Но я не в состоянии припомнить ни одного поблекшего момента из жизни в стране снов с тех пор, как вернулся. Стак – сон наяву, мальчишка-солдат, вырастающий на экране, готовый рухнуть на мою голову.
Прогуливаюсь, осматриваюсь – застопорилась, взвыла улица, чужие доходы взлетают до небес, до башен пентхаусов, не подчиняющихся законам зонирования.
Хорошая идея – работать в учебном заведении, учитывая, что настанет время и идея эта растворится в частностях. В понедельник ни свет ни заря приезжает фургончик, в салоне уже двое сотрудников, живущих на Манхэттене, и мы отправляемся в небольшой населенный пункт в Коннектикуте, где находится колледж: скромный кампус, студенты со средненькими перспективами. Мы остаемся там до середины четверга, а потом нас везут обратно в город; примечательно, что мы трое всякий раз придумываем новые вариации разговоров ни о чем.
Долгая тихая жизнь – вот куда я, кажется, вписался, остается только один вопрос: насколько убийственной она окажется.
Но правда ли я так думаю или добиваюсь эффекта, ищу способ уравновесить легкость моей будничной жизни?
Вхожу в комнату с монохромными картинами, вспоминаю последние слова, что Росс смог выговорить. Грунтовка холста. Пытаюсь освободить этот термин от значения и думать о нем как фрагменте прекрасного утраченного языка, не звучавшего тысячу лет. Картины в комнате – холст, масло, а я думаю, что пойду в музеи, галереи и буду разыскивать картины с обозначением: холст, грунтовка.
Часы идут, и я иду, маневрирую, чтоб не вляпаться в собачье дерьмо.
Эмма и я, когда-то любовники. Мой смартфон всегда на бедре, потому что она где-нибудь там, в цифровой чаще, и за рингтоном, который слышится редко, скрывается ее голос, в одном мгновении от меня.
Ем нарезанный хлеб – в холодильнике его можно долго хранить, чего не скажешь о греческом хлебе, итальянском или французском. Пышный, хрустящий хлеб ем в ресторанах, где обедаю, бывает, обычно один, – так мне хочется.
Все это имеет значение, даже если и не должно. Хлеб, который мы едим. Заставляет меня задуматься, хоть и ненадолго, кем были мои предки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу