Море разрывает на части себя, на клочья старых газет, на лоскутья изжеванного молью и протертого нежностями муара с блестками перловых пуговок. Все это мы уже видели не один раз. Wiederholungszwang, как говорится между нами девочками. Море — это то, что днем и ночью ищет для себя форму, то есть, по Стагириту, душу.
Собранье цитат, от vae victis до наших дней.
Завод по производству надгробных памятников: рыдающие ангелы сходят с конвейера (боже мой, это надо отдать сонно романоязычной супруге — кон-вейер). Трубы, лиры и, не смейтесь, циркули в ассортименте. И, спешим успокоить, среди всей этой гипсовой продукции, протезов невосполнимой утраты, не найти двух одинаковых экземпляров. Тут — трещинка, там, изволите видеть, пятнышко. Гарантия — вечность. Одна незадача — сойдя на берег, памятники обращаются в прах.
Волны его доконали. Он не ждал от них подвоха. Верил в их прямодушие, в их прямолинейную концепцию. Он выбегает на берег, продрогший, как цуцик. Вода стекает соленой грязцой и уходит в песок. Скорее — переодеться! Стянуть с себя наготу и напялить шкуру, перья, да что угодно. Чтобы приняли за человека, надо быть немножко, хотя бы по виду — зверем, птицей, тем, к чему в данную минуту лежит (а она только и делает, что лежит) душа.
Если долго на море смотреть, можно, впрочем, увидеть поле боя, узы любви, стеклянную дверь, пропилеи. Жалость приходит к людоеду во время еды. Ничего не попишешь: жизнь всего ничего. Если долго на море смотреть…
Потеря рассудка, потеря бдительности. Среди волн есть одна, та, которая лживо-живее других: лента, бант, кружево, гребешок. Как проталина в паху ледяной пустыни. Драгоценная пронизь. След слюдяной. Не дай бог, попасться в ее оборот, плещущий счастьем. Нырнув, не вынырнешь. Так игла в мозолистых пальчиках вышивальщицы выделывает чудеса, продевая сквозь плетенку рогожи пурпурную нить.
Есть дни, когда море лежит ниц, есть дни, когда — навзничь. Сегодня оно ворочалось с боку на бок, как больной в своей беспокойной постели. Кровь, пот, моча, сопли, слюна, слезы. «Вам еще повезло!» Она не произнесла ни слова, только беззвучно всплакнула. Стул стоял посреди комнаты, но сесть никто не решался. Новый ключ подошел к старому замку. На корабле кончились запасы воды и сухарей. Ветра не было. Безликое солнце слепило напрямик из безмерной синевы. Капитана убили и надругались над трупом.
17
Бронзовый тритон, по преданию поднятый сетями со дна моря, стоял посередине зала ресторана. В своем историческом трактате Успенский отвел ему не одну страницу как ценной, хотя и сомнительной с точки зрения науки, древности. Хозяин ресторана, человек скрытный, предпочитающий хорониться за кулисами, признавал в бронзовом тритоне самого настоящего бога, даже не дубликат. Когда под утро посетители расходились, он, отослав по домам сонных, объевшихся в кухне официанток, лично протирал замшевой тряпочкой чешую.
У Хромова сложились свои отношения с тритоном. Сидя за столиком и пристально глядя на бронзового истукана, он ничтоже сумняшеся отрицал его существование. Другими словами, на другом языке, тритон, по его мнению, которое он соглашался признать непросвещенным, был несуществующим богом, resp богом небытия. Разумеется, и такому богу следовало поклоняться, принося ему в жертву свои мысли и вожделения, но не так, как тем бесчисленным привычным богам, которых мы ублажаем в течение дня и на дне ночи. По поводу того, каким образом следует поклоняться несуществующему тритону, Хромов испытывал сомнения. Одно было ясно — в любом случае надо держаться от него подальше. Можно шептать «тритон, тритон», пощипывая девичьи груди, воображать его покрытую патиной тушу, просеивая сквозь пальцы прибрежный песок, выковыривая косточку из мягкого абрикоса, или, напротив, шагая по горной тропе, полностью изгнать несуществующего тритона из головы, забыть, что его не существует. Но, сказать по правде, удалившись от тритона на приличное расстояние, Хромов уже не был уверен в своем отрицании. А ну как есть? Стынет безмолвно. Лоснится среди господ вкушающих и дам. Надзирает. Только сидя напротив, пристально глядя на тритона в ожидании, когда официантка исполнит приказ, он вновь и вновь убеждался, что несуществующего бога не существует. И мог отдаться, наконец, обыкновенным человеческим удовольствиям, которых его лишал обыкновенный человеческий страх.
Угар дорогого общепита, шум, красивые, возбужденные своей красотой женщины, кулинария, ничтожные разговоры, все то, что не переводится, развлекало Хромова, когда книга отходила на второй план, освобождая место для непритязательной скуки, которая, как та самая легендарная сеть, вылавливала из мутных поддонных течений чудом уцелевших богов обоего пола. Здесь он мог подцепить какую-нибудь знакомую незнакомку, чтобы увести в темноту, грубо облобызать, путанно раздеть. Как всякий писатель, Хромов хотел, чтобы его считали за своего там, где он был чужим. Манит то, что меняет. Ночь, приближаясь, устанавливает свои правила. Избитые, испитые мысли приходят на ум, принарядившись, в румянах и пудре. Хочется не писать, а надиктовывать, расхаживая по комнате, сердито поглядывая на скачущие по клавишам тонкие пальчики, на узкий затылок в светлых колечках волос, подавляя в себе желание хрястнуть топором, чтобы голова с выпученными глазами отлетела в фонтане хлещущих брызг.
Читать дальше
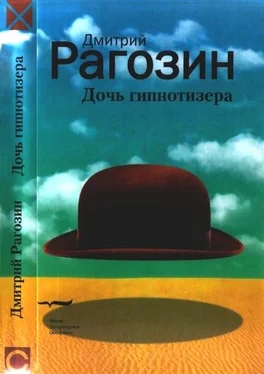

![Алексей Леонтьев - Тройной прыжок [журнальный вариант]](/books/63360/aleksej-leontev-trojnoj-pryzhok-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)



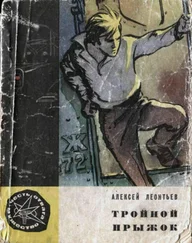


![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)
![Филипп Ли - Звездолеты ждут [СИ] [= Тройной прыжок, другая редакция]](/books/390891/filipp-li-zvezdolety-zhdut-si-trojnoj-pryzhok-thumb.webp)
