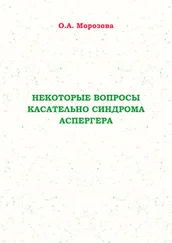И папа, и Ханна исчезли. Стали громадными бабочками под стеклом в пустой гулкой комнате. Я смотрела на них, кляня себя за тупость. Как могла я не замечать вопиющего сходства? Размер (намного больше натурального), яркие крылышки (повсюду привлекающие к себе внимание), детство в виде жалкой гусеницы (один – сирота, другая – богатая, но несчастная девочка), ночной образ жизни (оба канули в неизвестность, как во тьму), ареал обитания неизвестен.
Если мужчина так громко поносит женщину, как папа – Ханну («банальная», «непутевая», «не могла похвастаться крепким душевным здоровьем»), чаще всего за этой ширмой, как приз в телевикторине, скрывается роскошный автомобиль цвета беж под названием «Любовь», блестящий и непрактичный (наверняка через год сломается). Эта уловка стара как мир – как я могла попасться, ведь я прочитала всего Шекспира, включая поздние пьесы, а также биографию Кэри Гранта «Любовник поневоле» [508](Мерди, 1999).
«БАБОЧКИ. ХРУПКОЕ». Почему, как только я стараюсь думать о папе и Ханне вместе, в голову лезет старая картонная коробка? Этими двумя словами папа описывал маму. После всякой мишуры вроде плие и балансе и платья невыясненного цвета вдруг являлись эти слова, будто обедневшие гости на званом обеде, смущаясь и робея, словно папа говорил о ее стеклянном глазе или ампутированной руке. Ханна Шнайдер в «Гиацинтовой террасе» произнесла те же слова, обращаясь именно ко мне, а не ко всей нашей компании. Она сказала: «Есть люди хрупкие, как… как бабочки».
Они употребили одни и те же слова, потому что думали об одном и том же человеке.
Сколько раз папа, придумав кому-нибудь броское определение, прилеплял его, как наклейку на ветровое стекло (к примеру, декан Рой в Арканзасском университете в Вильсонвилле обозначался стандартной фразой «сладкий как сироп»). Должно быть, Ханна слышала, как папа говорил о маме. И точно так же, как однажды за обедом бросила мне в лицо папину любимую цитату (счастье, собака, солнце) и оставила в видеопроигрывателе кассету с папиным любимым фильмом (рассматривая Ханну в ультрафиолетовых лучах, я отчетливо видела на ней папины отпечатки пальцев), – вот так же она швырнула мне эти два слова, обронила кусочек своей черной тайны, словно тонкую струйку песка между пальцев. Даже наедине со мной, в лесу, Ханна так и не собралась с духом отдать ее всю – подбросить в воздух, чтобы тайна просыпалась нам на головы, застревая в волосах и прилипая к губам.
Вот она, правда, которую они все это время скрывали (папа – с яростью Пятой симфонии, Ханна – беспорядочно и неаккуратно). Они знали друг друга (по моим расчетам, с 1992 года) в том самом смысле, который отражали плакаты у нее в классе. Я уже никогда не смогу установить, было это как в фильме «Афера Томаса Крауна» или же как в «Завтраке у Тиффани» или они раз триста чистили зубы у одного и того же умывальника.
Я не ахнула. Даже не всхлипнула и не захныкала.
Я всего лишь встала на колени возле старой картонной коробки и провела кончиками пальцев по бархатным спинкам, по усикам и крылышкам, по булавкам и обрывкам картона, словно надеясь, что Наташа оставила мне зашифрованное послание – предсмертную записку, указывающую на ее мужа-предателя с той же точностью, с какой сама Наташа определяла бабочку Delias pasithoe по ярко-красному пятну на крылышках, отпугивающему птиц. Объяснение, загадку, шепот из страны мертвых. (Ничего такого в коробке не было.)
К этому времени мои «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ» занимали целую общую тетрадь – страниц пятьдесят. Я вспомнила, как Найджел показал мне в комнате Ханны фотографию (наверное, Ханна ее потом уничтожила, потому что в обувной коробке я этого снимка не нашла). Маленькая Ханна с белокурой девочкой, а на обороте пометка синими чернилами: 1973. Я села в «вольво», поехала в интернет-кафе на Орландо и проверила: вышитый на кармашке школьного пиджака Ханны золотой лев совпадал с эмблемой частной школы на 81-й Восточной улице. В эту школу Наташа ходила в 1973 году, когда родители заставили ее уйти из балетного училища Ларсона (см. www.theivyschool.edu ). (У школы был еще дурацкий девиз: Salva veritate [509])
Потом я долго рассматривала украденную из гаража фотографию – ту, где Ханна в образе панк-рокерши с короткими ярко-красными волосами. И я поняла, почему в январе, увидев Ханну с безумной стрижкой, обкорнанную почти под ноль, испытала назойливое ощущение дежавю.
Женщина, которая забрала меня из детского сада и привезла домой в день маминой смерти, красивая, в джинсах и с короткими красными волосами, торчащими в разные стороны, как иглы у дикобраза, о которой папа сказал, что она наша соседка, – это была Ханна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу