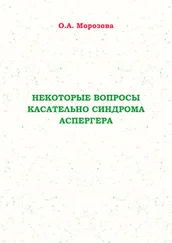Мы расстались с доктором Куропулосом и с Парижем на два дня раньше, чем планировали. Может, не так уж и удивительно, что папа позвонил в аэропорт и поменял билеты. Он как-то сник, постоянно вздыхал, и в глазах полопались сосудики. Впервые на моей памяти папе не хватало слов. Усаживаясь в такси, он сказал Ром-бабе только «спасибо» и «до скорого».
Зато я не пожалела пары минут, чтобы попрощаться как следует.
– Надеюсь, в следующий раз я смогу лично познакомиться с Электрой и Психеей! – сказала я, глядя прямо в его пустые, будто дыроколом проделанные глаза.
Мне почти стало его жаль: седые волосы свисают на лоб, словно комнатное растение, которое давно не поливали, нос в красных прожилках… Если бы мы жили в пьесе, удостоенной Пулицеровской премии, он был бы трагическим персонажем, который носит костюм с искрой и ботинки из крокодиловой кожи; у него неправильная система ценностей, и потому он потерпел жизненный крах.
– Пока, дорогая, м-м… Благополучно вам долететь!
До самого аэропорта папа молчал, прислонившись головой к окошку и мрачно разглядывая проносящиеся мимо улицы; поза настолько для него необычная, что я потихоньку вытащила свою «мыльницу» и, пока таксист ругал перебегающих через дорогу пешеходов, сделала снимок – последний на этой пленке.
Говорят, если человек не знает, что его фотографируют, он получается на снимке естественным – таким, как в жизни. Но папа в жизни не бывал таким тихим и печальным. Как будто потерянным.
«Сколько бы стран ты ни объехал, сколько бы чудес ни повидал, от причудливых башенок Тадж-Махала до первозданных сибирских лесов, рано или поздно приходишь к печальному выводу – чаще всего лежа в постели и разглядывая плетенный из соломы потолок бедной хижины где-нибудь в Индокитае, – пишет Суизин в своей последней книге „Местонахождение. 1917“ (1918), опубликованной посмертно. – Невозможно до конца излечиться от неотвязной лихоманки, называемой Родина. Промучившись семьдесят четыре года, я, однако, нашел верное средство. Нужно вернуться домой, стиснуть зубы и, невзирая на трудность задачи, определить с большой точностью и без прикрас координаты Родины – ее долготу и широту. Только тогда наконец перестанешь оглядываться назад и увидишь открывшийся перед тобою восхитительный пейзаж».
Глава 19. «„Вопль“ и другие стихотворения», Аллен Гинзберг
[362]
Когда в «Голуэе» началось новое полугодие, я заметила в облике Ханны одну странность, вернее сказать, вся школа заметила («Думаю, она на каникулах лежала в психушке», – предположила Тру на свободном уроке). Ханна остригла волосы.
И это не была очаровательная короткая стрижка в стиле 50-х, которую в модных журналах называют «мальчишеской» (как у Джин Сиберг в фильме «Здравствуй, грусть») [363]. Волосы просто обкорнали, а за обедом у Ханны Джейд заметила даже небольшую пролысинку за правым ухом.
– Что за фигня?! – ахнула Джейд.
– Что такое? – обернулась Ханна.
– У вас в прическе дырка! Скальп видно!
– Да ну?
– Вы что, сами себе волосы отстригли? – догадалась Лу.
Ханна замешкалась, а потом смущенно кивнула, тронув свой затылок:
– Да. Я понимаю, это выглядит сумашествием, но… Дело было поздно ночью. Мне хотелось что-нибудь предпринять.
Как же надо себя не любить, чтобы самой себя изуродовать? Об этом пишет феминистка Сьюзен Шортс в своей гневной монографии «Заговор Вельзевула» (1992). Я в шестом классе средней школы города Уитон-Хилл заметила эту книгу, выглядывающую из холщовой сумки биологички миссис Джоанны Перри, и раздобыла себе экземпляр, надеясь лучше понять свою учительницу и перепады ее настроения. В пятой главе Шортс утверждает, что еще с 1010 г. до н. э. женщины, не в силах добиться независимости, причиняли вред сами себе, поскольку собственная внешность – единственное, что было подвластно женщине, из-за «колоссального мужского заговора, существующего с начала времен – с тех пор, как мужчина научился ходить на двух своих кривых волосатых ногах и заметил, что он ростом выше несчастной женщины», злобно пишет Шортс (стр. 41). Многие, в том числе Жанна д’Арк и графиня Александра ди Виппа, «обстригали волосы под корень» и резали себя «ножами и ножницами для стрижки овец» (стр. 42–43). Наиболее радикальные прижигали себе живот каленым железом, «что вызывало у мужей отвращение и досаду» (стр. 44). На стр. 69 доктор Шортс пишет еще: «Женщины уродуют свою внешность, потому что ощущают себя частью некоего общего замысла, который не могут контролировать».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу