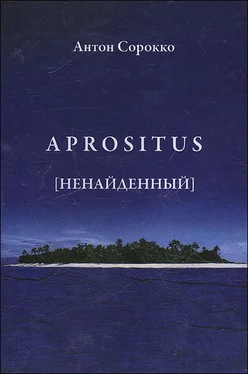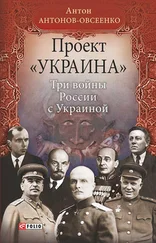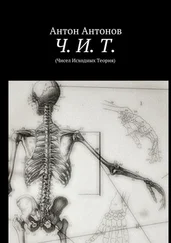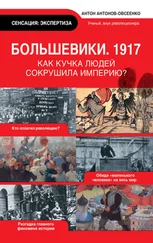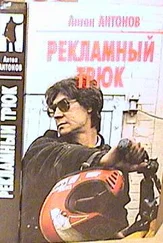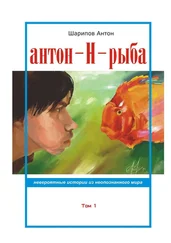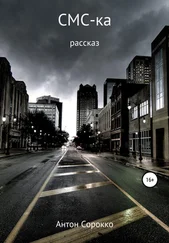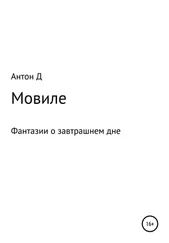Дело в том, что вплоть до настоящего времени остров Святого Брандана был скорее запутанным вопросом, чем мифом. С одной стороны, было известно, что в Атлантике есть острова, с другой стороны, существовало убеждение, что ирландский святой сделал какое-то открытие; проблема состояла лишь в том, чтобы привести в соответствие то и другое. Известный венецианский картограф Андреа Бианко последовал традиции и на своей карте 1436 года связал Мадейры с открытием святого Брандана. Но тот же Бианко на своей более известной карте 1448 года представил острова Мадейра и Азорские в виде беспорядочной вереницы островов, тянущихся с севера на юг и расположенных к востоку от другой группы островов, которая, очевидно, и была изображением подлинных Азор, воспроизведенных по португальскому источнику; они дополнили традиционное представление итальянцев об атлантических островах. Однако Бианко, вынужденный их как-нибудь назвать, назвал самый большой остров этой группы островом Святого Брандана».
– Умница! – почти вскрикнул от удовольствия О´Брайен и тут же, оторвавшись от книги, огляделся по сторонам, проверяя, не услышал ли кто-нибудь его неосторожный возглас.
«Спокойней, спокойней», – сделал он себе беззвучное внушение и, совладав с собой, стал читать дальше.
«Именно с этого момента остров начинает превращаться в миф в том смысле, в каком мы здесь употребляем это слово. Из ярлыка, прикрепляемого к известным уже островам Мадейра или Азорским, он превращается в название, живущее своей собственной жизнью и готовое свободно путешествовать по карте. В такой роли он, видимо, впервые фигурирует на знаменитом глобусе Мартина Бехайма, немецкого картографа, который в 1492 году находился на службе у португальцев и, очевидно, оказал влияние на Колумба. На глобусе Бехайма остров Святого Брандана появляется к западу от фактически существующей группы островов Зеленого Мыса и изображен значительных размеров».
О’Брайен остался доволен и этим абзацем, однако, уже держал себя в руках.
«Мифическая история острова Святого Брандана просуществовала столетие или около того. На английской карте 1544 года, приписываемой Себастьяну Каботу, остров был обозначен почти в центре Атлантики на широте северной части Ньюфаундленда. На широко известных картах Меркатора 1567 года и Ортелия 1571 года он показан там же. Другие картографы вплоть до начала XVII столетия копировали английскую карту. В 1620 году на карте Михаэля Меркатора остров еще сохраняется, но к середине столетия он исчез.
Однако с ним все еще не было окончательно покончено. Он вновь переместился к тому месту, где появился впервые, к Канарским островам. В конце XVII века решили, что среди Канарских островов существует восьмой остров, помимо основной группы из семи островов, и он был назван островом Святого Борондона. И по сей день жители Канарских островов не очень-то любят покидать родные места, поэтому их вера в существование еще одного острова могла быть сравнительно живучей. Поступали сообщения о том, что остров видели недалеко от острова Ла Пальма, но попытки Канарских рыбаков найти его оказались тщетными. Тем не менее “Сан Борондон” был официально объявлен собственностью испанской короны.
В настоящее время большинство историков полагает, что, если и есть доля правды в описании второго путешествия святого Брандана и его открытиях, значит, он, возможно, заходил на острова Мадейра или Азорские. Но в наше время острова его имени не существует, как нет его на картах уже на протяжении двух столетий…»
В этот момент в кармане у О’Брайена зазвонил телефон.
ГЛАВА 19
Неожиданное освобождение повергло двух робинзонов в замешательство. После того, как седой старец поговорил с ними и на довольно продолжительное время удалился в одну из пещер держать совет со своей свитой, оттуда вынырнул молоденький туземец – тот самый, которому больше всех досталось в драке с Андреем. Выхватив свой чёрного камня нож, он одним движением перерезал верёвки, стягивавшие пленников, и отвёл их в одну из окружавших лужайку пещер.
В пещере было просторно. Высокий потолок терялся над головой, стены были завешены разноразмерными шкурами, полом служила хорошо утоптанная земля. Помещений оказалось два: наружное и внутреннее. В наружной пещере из небольших камней был сложен очаг, в котором тлел огонёк и белели потухшие угли и пепел. Поодаль в углу лежала стопка хвороста и большой глиняный сосуд с водой. В стенах были сделаны ниши, где стояли глиняные чаши со спелыми фруктами, пучки свежих и засушенных трав, кувшины с широким горлом и подобие небольших пиал. В дальнем углу на уступе виднелись соломенные подстилки, видимо, служившие в этом доме постелью. Спальных мест было четыре: в пещере вполне могла разместиться целая семья. Позади виднелась сводчатая арка, ведущая во внутреннее помещение, куда дневной свет почти не попадал.
Читать дальше