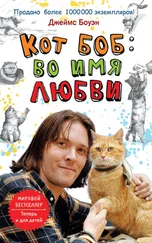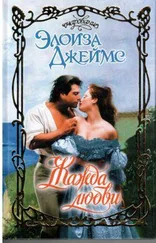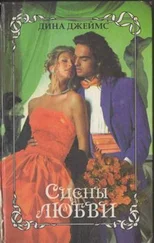Тем вечером отец домой не вернулся, Аннушка с сестрою и маменькой просидели до полуночи за чаем и картами. Затем матушка велела слугам ложиться спать, а сами они уселись на софу наблюдать за маятником немецких часов, помещенных рядом с камином. Материнские пальцы ласкали волосы дочерей, покуда девушки не попросили перестать: матушка пребольно царапала кожу. После того как пробило два часа, они с сестрицей уснули, прикорнув на плечах маменьки.
В пять постучали в дверь. Новости пробудили весь дом: отца арестовали по велению предводителя дворянства, заперли в городском каземате.
Наскоро ухватив шаль и шляпку, матушка выволокла полусонных дочерей на улицу.
Был май, как раз светало, женщины то мчась, то семеня продвигались по пустынным, сизым от пыли улицам, спотыкались под взглядами медлительных, захмелевших гуляк.
Анна стояла у ворот тюрьмы и держала сестру за руку, слушая, как мать несколько часов кряду бранилась с часовым у казематных ворот, стараясь пробиться на свидание к супругу, рыдая и размахивая платком перед лицом охранника, то и дело указывая на дочерей.
Часовой слушал внимательно, молча кивал, усы его поникли, а тем временем у ворот столпились жены прочих арестантов. Женщины были беднее, чем маменька, и распаленные оттого, что одной из них уделяют столько внимания.
Кончилось тем, что маменька ушла, потупив взор. Глянула на Анну и спросила, отчего дочь не плачет: слезы могли бы оказаться кстати. Тогда девушка разрыдалась.
Отца продержали за решеткой двое суток. В Сибирь не сослали, штрафа и суда удалось избежать.
Предводитель дворянства оскорбился, увидев холст. Маленькому бледнокожему человечку предъявили тяжкое обвинение, а то, что уездный сатрап не сразу уяснил суть упрека, лишь отягощало ситуацию: всего-то три мыши, а свет мигом почуял подвох, ибо живописцу потребовались месяцы, дабы собраться с духом и изобразить грызунов, так что художник успел уведомить о своих намерениях каждого.
Однако то был 1905 год, и старый лис оказался хитер. В присутственных местах угнездились либералы, на московских улицах пошли в ход пушки, вольные крестьяне снимались с дворянских угодий. Однажды над городом взвился дым: черносотенцы били жидов, но чад клубился и на окраине, исходя из оконных провалов ослепшего остова, некогда родового гнезда Кулин-Каленских. Полицейские оказались себе на уме, да и на газетчиков полагаться не следовало: журналисты утратили всякий страх. Когда же родная дочь предводителя поведала отцу, что ей отказали от дома наиболее уважаемые семейства, поскольку отец засудил художника Лутова, старый пройдоха устроил дело таким образом, что Аннушкиного отца отпустили.
Вернувшийся отец был увенчан лаврами победы, нежно обнялся с семейством, а час спустя отправился на устроенный в его честь прием, организованный величайшими в городе вольнодумцами, где освобожденного узника чествовали речами, величая рыцарем свободы, а тосты в честь героя торжества столь часто чередовались с призывами к конституционному строю и установлению выборной Думы, что новоявленный либерал уверовал в нерушимое единство всех трех положений и бессмысленность одного без прочих.
Недели и месяцы спустя после торжеств подобные мысли как-то сами собой оставили всех участников за исключением отца, убежденного, что среди всех примеров героизма, явленных в период борьбы за свободы 1905 года, ему принадлежит наиболее выдающийся подвиг. Всё реже и реже виделся папенька с семейством, на палитре и кистях скапливалась пыль, а творец тем временем выкуривал пудами турецкий табак да попивал кофий в обществе вольнодумцев и революционеров, собиравшихся по мрачным ресторанам и по тесным конспиративным квартирам. Сблизился с подпольщиком Цубасовым, залечивавшим раны, полученные в Одессе в стычке с казаками: революционер скрывался от охранки, и, случись оказаться пойманным, беглеца неминуемо ожидала бы виселица. На щеке виднелся шрам от сабельного удара, едва не разрубившего голову надвое.
Когда отец Анны поприветствовал бойца благородного образа мыслей, внесшего в общее дело едва ли не столь же весомый вклад, как и он, Лутов, то подпольщик, в шестнадцатилетнем возрасте выступавший на революционном съезде в Вене экспромтом, от изумления не нашелся, что ответить.
Лутов сделался завсегдатаем в доме, служившем своего рода вечерней школой для дам, желавших ознакомиться с марксизмом. Красноречие и убедительность выступлений бывшего художника существенно превосходили способности аудитории понять услышанное, ибо оратора нимало не сковывало пусть даже и поверхностное знакомство с работами прославленного мыслителя. Иные из молодых марксисток приходились Аннушке ровесницами.
Читать дальше