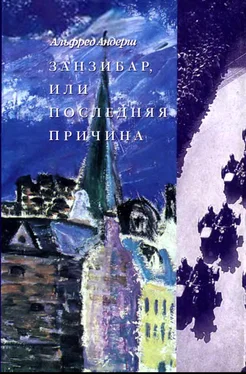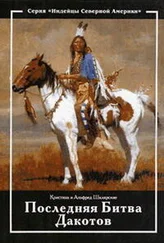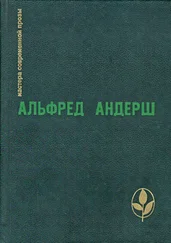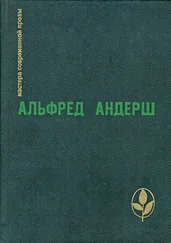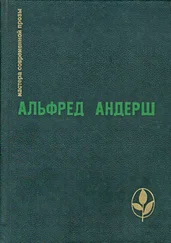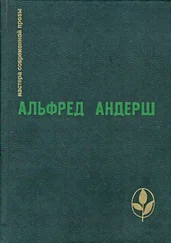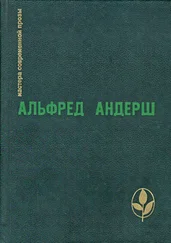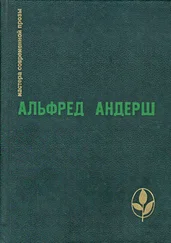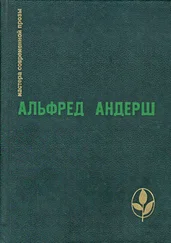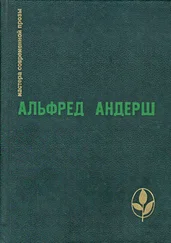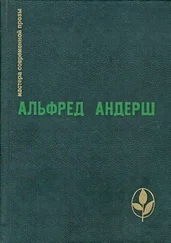Потрясенный этим зрелищем, я побежал к нему, чтобы поддержать, помочь, ибо знал, что он совершает одну из первых попыток пойти после ампутации. Но было слишком поздно. На бегу я увидел, как он побледнел, как выпустил костыли и рухнул на асфальт. Он лежал неподвижно, в глубоком обмороке, и скорбь на его лице вдруг утихла; в изнеможении его желтое, словно воск, лицо обнажило свою человеческую природу, отданную в жертву политической идее и из-за этого погибавшую. Мой отец стал неимущим, потому что сделал поражение Германии своим.
От этого падения он уже не смог оправиться. Кое-как залеченная рана на его культе вновь открылась и перешла в гангрену, уже неизлечимую. Он погрузился в длившуюся два года агонию, сопровождавшуюся дурманом от морфия и приступами боли. По ночам я часто слушал сквозь его отчаянный стон, как он молится. Молитвой ему всегда служил старый церковный хорал «О голова в крови и ранах», или он пел мелодию из «Страстей по Матфею» дребезжащим голосом, окрашенным невыразимой мукой. Это были мгновения, когда в груди моего отца пастор Иоганнес Креппель побеждал генерала Людендорфа. Потом я слышал, как мать включала свет, вставала и готовила новую инъекцию морфия. Мой отец был человеком, который наверняка сумел бы сам покончить с этой жизнью. Но тогда он умер бы не как «стопроцентный инвалид войны», как это называлось на ужасающем языке ведомства социального обеспечения, и моя мать после его смерти не получила бы пенсии. И потому он обрек себя на то, чтобы в муках ждать смерти под бичом грана сахара, который не могла передать организму его кровь.
Я же, когда было время, убегал. Часто отправлялся на велосипеде в замок Шлейсхейм под Мюнхеном; до него можно было добраться меньше чем за час. Я мог бы ездить и в Нимфенбург, который был гораздо ближе, но предпочитал Шлейсхейм. Там было мало людей. Замок, а попросту большой, торжественно выглядевший дом, белый и несколько запущенный, поднимался над деревьями баварской деревенской площади. Слева был проход через ограду в парк.
Никакого сравнения, конечно, с поразившим меня позднее видом, открывающимся с террасы Версаля на шелковистый водный ландшафт, горизонт которого клал к ногам короля всю Францию. Здесь же был лишь широкий цветник, размашистые грядки петуньи, а за ними большая аллея из старых деревьев и живых изгородей, дубняка или самшита, тянущаяся вдоль тихой канавки до маленького замка в отдаленной, уже совсем одичавшей части парка; собственно, это был всего лишь пустой павильон, лишь несколько темных полотен с охотничьими сюжетами висели на сиротливых стенах. Удивительно, что уединенность парка, белого замка, тихих цветочных грядок внушала мне чувство заколдованной бесконечности. Сидя на скамейке в Шлейсхемском парке, я находил то, что искал воскресными утренними часами, когда был бесплатный вход, на картинах Пинакотеки, в зеленоватых отсветах Мадонны Греко, в серых и розовых тонах Благовещенья Филиппино Липпи, в чистых красках сказочной Венеции Каналетто — аромат искусства. Читая стихи Верлена или Рембо в переводах Вольфенштейна, я ощущал, как проникает в мою душу жемчужная белизна дворцового фасада. Я снова мечтал о незнакомке, так часто являвшейся мне во сне, звук А казался мне окрашенным в черный цвет, Е — в белый, И — в красный, У — в зеленый, О — в голубой, гласные, воспринимаемые в цвете, окружали меня хороводом; я занимался самообразованием, становился, можно сказать, автодидактом.
Так я забывал погибших в революцию, скуку Нойхаузена, убожество школы, деклассированность моей мелкобуржуазной семьи, даже стоны отца, и начинал собственную жизнь, входя через решетчатую калитку возмужалости и замка Шлейсхейм в парк литературы и эстетики.
Пролитое пиво
Посмотрел недавно один из этих итальянских фильмов («неореализм») и представил себе, как мы будем жить. Ночи, импровизированные жилища, кирпичи, быстро догорающий огонь, питаемый обломками досок, широкие обтрепанные пиджаки, шарфы, маленькие пистолеты, помятый граммофон с где-то добытой пластинкой Бартока — концерт для смычковых, ударных и челесты, «East St. Louis Doodle Doo» Эллингтона (негр идет ночью по предместью Сент-Луиса и насвистывает), десятилетний Джерри караулит у дверей, а Лиза размешивает захваченное во время последнего налета консервированное молоко для младенца, лежащего в чистых лохмотьях в углу. Роскошь: в библиотеках, которые найдешь, взять одну-две вещи, например, «Смерть после полудня» Хемингуэя и «Осень средневековья» Хейзинги, остальное не трогать. Любовь: достаточно одного взгляда, правда очень нежного; самое прекрасное в ней — темно-каштановые волосы, отливающие топазом, и лицо, освещенное керосиновой лампой; прогуливаться с ней, взявшись за руки, осмотреть церковь Сен-Жюльен-ле-Повр, кое-как местами сохранившуюся, но все равно прелестную среди пришедших в упадок зданий. В общем и целом: союз чувствительных характеров с жесткой интеллигентностью социального дна — молчаливые добровольцы анархии. Подготовительная работа по созданию ячеек необходима уже теперь. «Не забывайте о великой стуже / В земной юдоли, стонущей от бед» [35] Строки из «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта.
.
Читать дальше