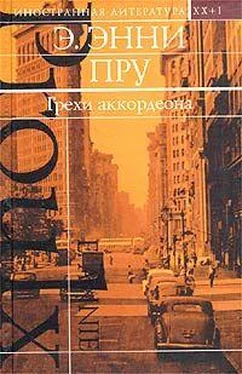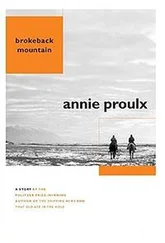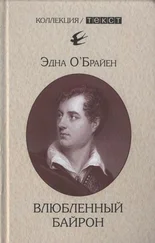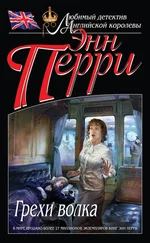Сильвано пугала причальная суета. Словно гигантский скребок прошелся по всей Италии и собрал на край маслянистого залива эту человеческую корку; шевелящаяся толпа была здесь в тысячу раз больше, чем на станции. Всюду люди, прямые и согнутые: завернутый в грязное одеяло мужчина дремлет на камнях, положив голову на чемодан и держа в вялой руке нож, плачущие дети, женщины сворачивают темные плащи, суетливо перевязывают веревки на ободранных чемоданах, мужчины сидят на корзинах с добром и грызут хлебные горбушки, черные платки старух повязаны узлами под волосатыми подбородками, носятся, не помня себя от радости, мальчишки, хлопают на ветру рубахи. Он лишь наблюдал за ними, не вступая в игру.
Час за часом шумная шевелящаяся масса тащилась по сходням на корабль, волоча за собой узлы и сумки, свертки и холщовые мешки. Очередь тянулась через всю палубу к столу, где рябой чиновник делил людей на группы по восемь человек, разлучая семьи и соединяя посторонних – ему было все едино; самому высокому человеку в восьмерке он выдавал номер, означавший их место в столовой. Эти восемь пассажиров, знакомых или чужих друг другу, на тысячи водных миль связывал теперь обеденный билет. В одной группе с мастером оказалась противного вида старуха с лицом, как полумесяц, и два ее племянника.
Мастер и Сильвано спустились на три уровня вниз, к мужским каютам – длинные ярусы коек там напоминали складские дровяные штабели. Им досталось две верхних полки, клетка, чтобы спать и держать вещи: чемодан и аккордеон, скрученную овчину и серое одеяло. Керосиновая лампа флегматично поблескивала, тени качались, словно висельники, мерцающий свет пробивался с трудом, пробуждая сомнения и заставляя поверить в демонов. Отец и сын еще помнили уверенное спокойствие электрических огней Палермо.
(Пары керосина, днище судна, металл, морская краска, запах беспокойства, грязной одежды и человеческих выделений, приправленный соленым ароматом моря, крепко отпечатался в памяти Сильвано, знакомые миазмы вспомнились позже, на борту техасской рыбацкой лодки, их не стерли даже зловоние прогорклого масла и газа, что пропитали его трудовые дни в первые десятилетия нового века. Одно время он работал пожарником на гидропонной ферме, стрелял ядрами в горящие резервуары, чтобы выпустить масло в выкопанный вокруг них ров, прежде чем оно начнет взрываться. Он уехал в Спинделтоп, потом в оклахомский Глин-Пул [7], мельком видел нефтяного короля Пита Грубера в костюме за миллион долларов из кожи гремучих змей, работал на «Золотой линии» от Тампико и Потреро до озера Маракайбо в Венесуэле, где и закончилась его игра – в джунглях, сжавшись в комок, он так и не смог вытащить из горла индейскую стрелу.)
Мастер предупредил Сильвано, что переход тяжелый, и его, возможно, будет все время тошнить, но выйдя после Палермо, Сицилии, Европы в открытые воды земного шара, они вдруг попали в зону ясной погоды. День за днем солнце золотило волны, море оставалось спокойным, без барашков и гребней, лишь бесчисленные возвышенности, лоснясь, раскатывали по его поверхности пенные ковры. По ночам это водное кружево светилось и мерцало зеленоватыми блестками. Корабль со свистом летел по морю, а Сильвано таращился в небо такого глубокого цвета, что видны были клубящиеся личинки – это ползали в пурпурной глубине зародыши звезд и ветра. Каждое утро из чрева парохода, как долгоносики из пня, выползали пассажиры и укладывались на солнце; женщины шили и плели кружева, мужчины что-то мастерили, рассказывали о своих планах, бродили кругами по кораблю, надеясь избежать запоров. Почти все ели на палубе, отвергая вонючую столовую. Чтобы превратить корабельное варево во что-то более-менее пристойное, из чемоданов доставались сушеные помидоры, чеснок, колбаса и твердый сыр. В спокойствии моря мастер видел добрый знак, он верил, что счастье повернулось к нему лицом, с удовольствием раскуривал сигары, а по вечерам играл на аккордеоне. Женщины улыбались ему, одна спросила, знает ли он «L'Atlantico» и напела подходящую к волнам мелодию. Мастер ответил, что с удовольствием выучит песню, если она согласится быть его наставником.
От команды и пассажиров, уже побывавших там или получивших письма знакомых, просачивались рассказы о Новом Орлеане: город формой напоминает ятаган, втиснут в излучину великой реки, гроздья мха свешиваются с деревьев, словно птицы, чайная вода заливов кишит аллигаторами, а по улицам разгуливают черные, как эбеновая древесина, люди; мертвые там лежат в мраморных кроватях прямо на земле, и все мужчины носят с собой пистолеты. Один из матросов научил Сильвано слову «морожино» – очень редкое и вкусное холодное лакомство, которое готовят с большим трудом и только на сложной машине.
Читать дальше