Интересно, кого он таскал ко мне в номер? Наверное, какую-нибудь замухрышку из редакции. А Лера красивая женщина. И у нее характер. Она тут всеми скрыто командует, даже старшей сестрой и стариком.
Стоя с бокалом в руке, что-то долго говорит Аннаев. Он произносит торжественную и витиеватую, по-восточному лукавую речь. Я улавливаю, что он в чем-то не согласен с почтенным аксакалом, то есть с Николаем Евстафьевичем. Ай-ай, не надо испытывать судьбу, пустыня — плохое место для молодых женщин. В пустыне живут чабаны, которые месяцами видят женщин только во сне, это опасные ребята.
— Не клевещите на чабанов, Михаил Иванович, — говорит Лера. — Они чудные, добрые люди. Давайте выпьем за чабанов!
— Тогда уж лучше за мужа, — говорит Саша. — По вине жены, которая без конца в разъездах, муж сам превращается в чабана.
— Я, Сашенька, за тебя не волнуюсь. Ты не пропадешь. — Лера, смеясь, треплет его за волосы. — Ты все-таки в Ашхабаде.
— А Ашхабад, говорят, город любви, — добавляет Аннаев.
— Категорически я не утверждаю, что пропаду. Выходы, конечно, есть. Но и чабаны ведь тоже не пропадают, у них тоже есть какие-то выходы…
Аннаев в восторге от Сашиного остроумия; смеясь, он хлопает кончиками пальцев по Сашиной ладони — жест особенной признательности.
Приносят плов. Все с воодушевлением принимаются за еду. Над столом порхают обрывки бумажных салфеток. Одна из Лериных теток, не обращаясь ко мне прямо, но явно в мой адрес, говорит, что в Москве такого плова не поешь. В тридцать восьмом году она однажды поела плова в Москве, и потом весь день ее мутило. Она вновь вспоминает, что в тридцать восьмом году было дождливое лето.
Дождливое лето! Вдруг я вижу его, оно возникает с необыкновенной отчетливостью. Сначала долгая поездка на трамвае, очень долгая, на окраину города, на улицу Матросская Тишина. Там давали справки и принимали передачи. Там были маленькие черные домишки, булыжная мостовая, заборы и толпа людей, которая выстраивалась в бесконечную очередь — женщины, дети, старухи, все они стремились к окошечку. Сначала стояли на улице, потом влезали в помещение. До окошечка было невероятно далеко. Мне было двенадцать лет, я читал Вальтера Скотта, прислонясь плечом к засаленной черной стене, исцарапанной и исчерканной надписями. Сердце начинало колотиться, когда окошечко приближалось. Потом, получив справку, я выходил во двор и видел ту же толпу, на которую сеялся дождь. Да, да, было дождливое лето. Тогда было ужасно дождливое лето, я ни разу не купался в реке, и не было никакой дачи и никакого пионерлагеря, я жил у тети Оли на Остоженке и читал книги, как сумасшедший. Девятнадцать лет назад.
Я слышу голос, похожий на голос тети Оли:
— Что за семья — он там, она здесь? — Это говорит другая родственница Леры, не та, что вспоминала про Москву. — Подумайте, только приехала — и через две недели опять в пески! Ведь она, бедняжка, жизни не видит. Одна слава, что инженер, а годы-то идут…
Эта родственница, кажется, продолжает тему Аннаева. Она все приняла всерьез и всерьез отговаривает Леру от возвращения в пески.
Лера пытается отшутиться, но тетка непреклонна. Она требует ответа. Всем ясно, что разговор неуместен, начался с шутки и эта тема не для всеобщего обсуждения, но человек без чувства юмора обладает гигантской силой. Все вдруг начинают говорить всерьез. Николай Евстафьевич всерьез доказывает, что Лера занимается важной и большой работой: именно для такой работы она училась пять лет в Москве. Лера говорит пожилой тетке что-то нервное и резкое, и та обижается и через четверть часа встает из-за стола и со страдальческим лицом, держась за виски, как будто у нее мигрень, прощается со всеми и уходит. Но свое дело она сделала. Саша вдруг заявляет Николаю Евстафьевичу, что никакой «важной и большой работы» не существует. Канал? Да ведь умные люди давно понимают, что тут больше шуму, чем дела. Эффект будет незначительный.
— Как глупо! — говорит Лера. — Когда ты злишься, ты всегда говоришь вздор.
— Я не злюсь. Чего мне злиться? Просто я говорю, что все это предприятие сильно раздуто. Твоя работа сама по себе интересна, но она прикладная.
— Нет, позволь-ка! — Николай Евстафьевич с волнением приподнимается. — Что именно раздуто?
— Где раздуто? — удивляется Аннаев. — Зачем так говоришь, Саша?
— Не спорьте с ним. Папа, не спорь. Он говорит нарочно.
— Ничего подобного.
— Тогда позволь: в своей же газете, где ты работаешь…
Читать дальше
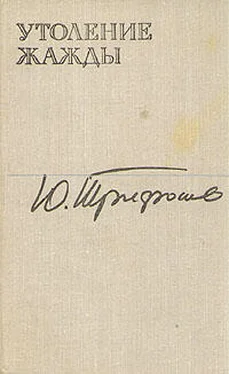

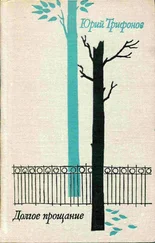


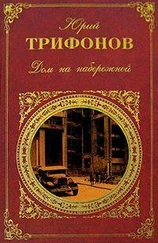
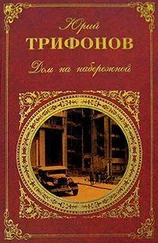
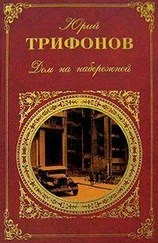



![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)
