— Ой, дурак, ой, дурак… — плачущим голосом сказала Марина и закрыла ладонями глаза.
Так простился со стройкой Семен Нагаев. Он уехал через полтора часа на попутной машине, которая мчалась из Маров, везя на прорыв какое-то начальство. На бывшем нагаевском бульдозере уехали Иван Бринько с Беки Эсеновым — Нагаев обогнал их по дороге, — а Марина тряслась в кабине грузовика «ГАЗ—63», рядом с Байнуровым, и, отвернувшись, смотрела в окно на темные холмы песка, темные кустики, убегающие назад, и слезы душили ее, она вытирала ладонями щеки, и жизнь казалась ей искалеченной, разбитой навсегда.
Ермасова в тресте не было. Я побежал к нему домой. Он собирался на аэродром, а оттуда на трассу, вертолетом. Мария Никитична, его жена, черноглазая, худенькая старушка с восковыми ручками, со слабым голосом, чем-то очень больная, — я познакомился с нею вчера и пил чай с абрикосовым вареньем ее приготовления — смятенно, по-старушечьи спотыкаясь, носилась по комнате в поисках чего-то. На полу стоял раскрытый саквояж. Ермасов тоже что-то искал в своем столе, чертыхался, выбрасывал из ящиков бумагу.
Оказывается, пропало лекарство, которое нужно в дороге. Мне дали рецепт, я побежал в аптеку.
Вчера мы сидели со стариком до двух ночи, он рассказывал свою жизнь. Не знаю, чем я его пронял. Над ним, он сказал, всю жизнь бушевали грозы, но молнии его щадили, и поэтому он считает себя счастливым. Он был на войне и уцелел. Врачи обрекли его на смерть, но он выжил.
Я спросил, не встречался ли ему на тех, довоенных стройках, такой Корышев, Андрей Александрович? Инженер-строитель, строил мосты. Нет, такого не помнит. Не встречал.
Ни с кем я тут не делился, не откровенничал и вообще не люблю говорить об этом — так же, как ашхабадцы о землетрясении, — и вдруг с этим стариком, которого вижу второй раз в жизни, меня разобрало. Я стал рассказывать об отце, о своей жизни без него и без матери, о том, как я воспитывался у тетки и это было несладко, но все же лучше, чем детский дом, о том, как мытарился после университета. Маленькая старушка смотрела на меня печальными черными глазами и едва заметно покачивала головой. Она не говорила ни слова, только пододвигала ко мне то блюдечко с вареньем, то пирожки, начиненные тем же самым вареньем. Я видел, что старик немного томится моим рассказом. Все это было ему знакомо до боли и не очень интересно. Кроме того, он любил говорить сам. Но я не мог остановиться. Я как будто пьянел от этого абрикосового варенья.
Он спросил:
— Ты член партии?
Я не был членом партии.
— Это неправильно, — сказал он. — Ты должен быть коммунистом. Тем более, что и твой отец был коммунистом.
Я сказал: да, верно. Но раньше, до реабилитации отца, меня, наверное, не приняли бы в партию, а сейчас пока совестно подавать: я ничего не добился. Но я еще добьюсь чего-нибудь, например, напишу книгу о пустыне.
И тогда он сказал, что если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить.
— Возьми хоть нашу стройку, — сказал он, — сколько мы ругаемся, спорим, топчем друг друга, обижаем смертельно! И сколько вокруг мелких страстишек, сколько несправедливостей мы терпим и сами творим, и ошибаемся, и черт еще знает что, но канал строится, и вода идет на запад, пускай медленно, тихо, но идет, идет! Несмотря ни на что. И вот для этого — для того, чтобы шла вода, — надо жить.
Так он говорил, ухмыляясь своим большим ртом, а глаза глядели проницательно, глубоко. Мне виделась его жизнь: пустая квартира в Москве, где фикусы, пыль в диване, давно не натиравшийся паркет, и живет какой-нибудь племянник, студент Бауманского училища, который приходит только ночевать и завтракает на кухне, где кисло пахнут бутылки из-под кефира и повсюду натыканы окурки и обгорелые спички. Я увидел взрослых детей: они шлют телеграммы. Я увидел старость. И я увидел дело, огромное, гораздо больше старости, больше разлук, и болезней, и всего остального, что приходится испытать человеку. Вот что я увидел вчера, внезапно, в тесной комнате, где стояли две кровати и круглый стол, покрытый клеенкой, и на стене висела фотография каких-то детей, двух мальчиков и девочки с большими ртами.
А сейчас я с ними прощался. Он сидел в кабине, держа саквояж на коленях, и смотрел на жену, все время пристально смотрел на жену, пока машина не тронулась, а меня как будто не замечал. Меня он как будто немного позабыл со вчерашнего дня.
Читать дальше
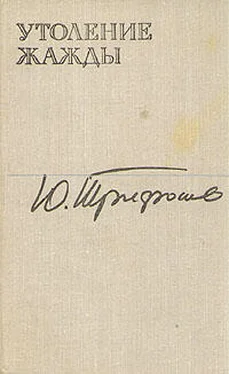

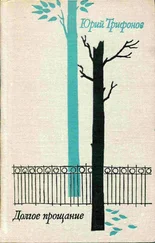


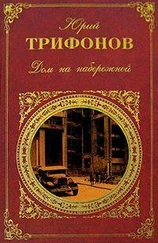
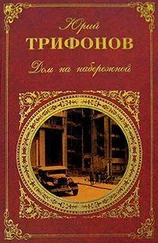
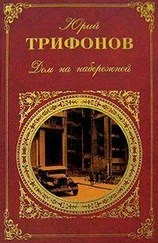



![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)
