— Где же спасение?
— Спасение — в лесах. Только леса могут остановить вселенское истощение почвы. Эй! Бекмурад! Стоп! — Профессор вдруг бросается на середину улицы с высоко поднятой рукой и останавливает замызганный «ГАЗ—57» с латаным брезентовым верхом. — Это наша экспедиционная. Прошу садиться!
Я сажусь назад, профессор рядом с шофером, и мы едем в старый Мерв.
К мавзолею султана Санджара подъезжаем в густых сумерках. Он стоит в совершенном одиночестве на голой и плоской земле, которая кажется пустыней, но вблизи видно, что эта земля исхолмлена остатками древних фундаментов, стен, обрушенных до основания башен. Кое-где в рытвинах белеет снег. Ветер с шорохом перекатывает песок. Можно подойти к мавзолею Санджара, но еще лучше смотреть на него издали: поднимающаяся луна освещает его тупые каменные хребты.
Сидя в машине, мы пьем горячий кофе из профессорского термоса. Кинзерский рассказывает что-то об арабах, о Тули-хане, сыне Чингиса, который сровнял с землей столицу сельджуков, вырезав все население, несколько сот тысяч человек, и уничтожил все здания Мерва. И только мавзолей Санджара не смогли разрушить монголы.
— Хотите подойти поближе? — спрашивает профессор. — Вы увидите эти камни, ощутите движение веков.
— Как хотите. Но, по-моему, все ясно.
— Все ясно! Да, да… Замечательно сказано: все ясно… — Он усмехается и умолкает.
Мы едем обратно. Справа бежит тень машины, скользящая темной волной по белому от луны бугристому полю. Помолчав, я говорю, что мне никогда не удавалось взволноваться при виде старых камней и ощутить нечто торжественное, вроде движения веков, или движения лет, или даже просто движения времени. Но зато я ощущаю это при виде людей. При виде некоторых я вижу годы, десятилетия и даже иногда века. Вот недавно, например, на базаре я видел человека, который вполне мог быть одним из всадников Тули-хана. Он продавал орехи. Но у него были такие глаза и такие руки, что я сразу понял: он оттуда, от Тули-хана. Мой отец всю жизнь пронес на себе печать семнадцатого года. А есть люди конца двадцатых годов, середины тридцатых, и люди начала войны, и люди конца войны, и они, как и мой отец, остаются такими до конца своих жизней.
— Вы согласны, профессор?
— Я согласен, но меня интересует, к какому году вы относите себя, мой славный аналитик? Про меня уж не спрашиваю: наверняка к какому-нибудь девятьсот шестнадцатому или тринадцатому.
— Мой год, я думаю, еще не наступил.
— А мой, мальчик? — Профессор смеется. — Мы все так думаем.
Сначала высокий очкастый старик читал заключение комиссии. Ничего страшного. Разные мелкие неполадки и незначительные грешки: площадка мастерских засорена деталями, отсутствуют навесы, нет заводских табличек с номерами…
Его напряженно слушали. Я сидел рядом с Искандеровым, который шепотом объяснял мне, кто тут кто. Меня, естественно, занимал Карабаш — тот, за кого следовало заступаться. Он оказался примерно моего возраста, а может быть, даже чуть моложе, худощав, смугл, невысокого роста. Держался спокойно. В его повадке, в движениях рук, в том, как он брал папиросу, потирал пальцами подбородок и крепкие желтые скулы, во взгляде его черных, редко мигающих глаз была какая-то восточная сосредоточенность и прочность. Хотя он был, кажется, не здешний, а с Севера.
Его сосед, инженер Гохберг, вначале очень нервничал, но потом успокоился. Я тоже успокоился. Все разворачивалось довольно благополучно.
Комиссия предлагала инженеру Гохбергу, как непосредственному руководителю ремонтных мастерских, упорядочить производство ремонта, прибрать территорию, соорудить навесы и так далее. Карабашу предлагалось организовать бесперебойную доставку продуктов и построить на территории мастерских столовую. Вот и все. Ничего похожего на громы и молнии, которые метала газета.
Ермасов ерзал на стуле и пытался сдержать улыбку.
Как только старик в очках с железной оправой закончил чтение и сел, немедленно попросил слово Хорев. Он сразу начал кричать, взмахивая руками, протягивая их то к одному, то к другому из сидящих за столом, обращаясь за поддержкой ко всем по очереди, и один раз он обратился ко мне: я увидел выпуклые и как бы остановившиеся, напряженно-остекленевшие глаза.
Хорев кричал, что заключение комиссии — документ беззубый и непартийный. Замазываются недостатки. Желают спустить дело на тормозах. Но это не выйдет! Пришло время говорить откровенно, начистоту!
Читать дальше
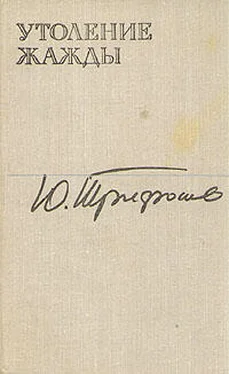

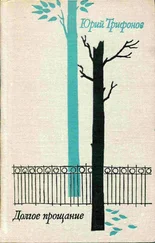


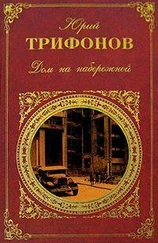
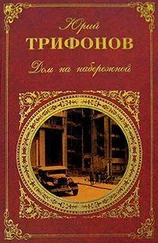
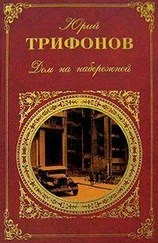



![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)
