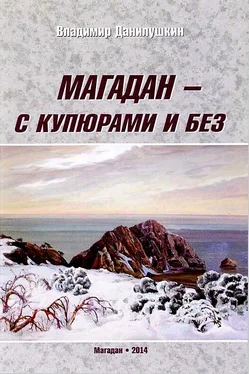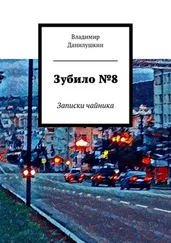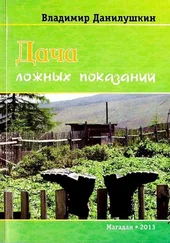И вдруг затрясло меня крупной дрожью индивидуального землетрясения: многих работавших в снесенном здании уже нет на свете, их голоса наполнили виртуальный слух. Я знал их, молодых женщин — ту, что погибла от рук мужа, задушенная в садомазохическом порыве и лежала не похороненная несколько дней, ее дочку увезли в больницу с признаками отравления трупным ядом. Вспомнил и ту, что попала под машину на перекрестке у автовокзала в ожидании зеленого сигнала светофора. Она так хорошо отозвалась о моей первой книге, а теперь лежит на Марчеканском кладбище рядышком с отцом под отшлифованными гранитными блоками. Оттуда видно море. И чайка, подгоняемая бризом, с печальным криком низко пролетает над вершинкой, с которой открывается вид на Марчеканский залив, куда заходят рыболовные суда, где была да сплыла база подводных лодок.
Помню и красавицу Любу, что загадочно погибла под колесами автобуса в районе Простоквашина, после щедрых авансов книголюбов на собрания сочинений Солженицына, так и не дошедших до Магадана, немалые центнеры книг. Деньги щедро сыпались в кассу. Теперь-то книжные магазины позакрывались, а в самом заметном торгуют обувью. Когда я беру в руки ботинки, чтобы надеть, всегда тянет почитать их.
О Солженицыне, конечно, не забывали, но вот он умер, и волна вторичного интереса накрыла страну глобально, а кое-кто попечалился и о других писателях, отдавших здоровье и жизнь непосредственно Колыме. Самый первый, кажется мне, по величине дарования и по тому, что нового, страшного удалось сказать о человеческой природе — Варлам Шаламов. Он предстает в моем воображении как генерал Карбышев, замученный немцами в войну, хотя умер на воле, если можно назвать волей жесткую койку в лечебнице. Он первый сказал о воскресенье человеческого разума в физиологическом смысле: как пробивается поэзия сквозь рубцы живой, но уже не мыслящей мозговой плоти. Он все испытал на себе, словно войдя в ядерный реактор.
Какие другие неведомые таланты зарыты на твоих полынных, иван-чайных полях, Колыма! А что взошло?
Люба, фанатка Солженицына, была журналисткой, но не придерживалась фактов, давала волю фантазии, и в такой мере, что в наше время не вылазила бы из судов по искам за клевету. Я был последним, кто печатал ее полные неточностей заметки, по мере возможности перепроверяя на местности.
Артистов и самоубийц принято хоронить за пределами кладбища. (Моряков вообще за пределами суши.) Надо было бы прибавить сюда и журналистов, четвероногую власть, — сам более 50 лет занимаюсь этим самоубийственным актерством и знаю, о чем речь. Правда, та, о ком говорю, как и я, не выходила из партии, поскольку не состояла в ней, вышла из жизни, так и не прочитав толком сочинения Нобелевского лауреата.
Да, пока не забыл, Солженицын был пятнадцать лет назад в Магадане пролетом из Америки: вышел из самолета, но в город лауреата без визы не пустили. Он опустился на колени и поцеловал землю: мол, приношу поклон колымской земле, схоронившей в себе многие сотни тысяч, если не миллионы наших казненных соотечественников. Цитирую по печатному источнику. (Далее отточие, видимо, у Исаича перехватило дыхание.) По древним христианским представлениям, земля, схоронившая невинных мучеников, становится святой…
Я-то знал, что названная цифра человеческих потерь гиперболическая: управлению милиции достался от лагерных времен в наследство миллион дел. Не могли же каждого расстрелять три раза! За каждым зэка числилась не одна ходка. Расстреляно было, по официальным данным, восемь с лишним тысяч человек, в основном уголовников, а всего через колымские лагеря прошло за полвека более двухсот тысяч человек.
Но никто ни до, ни после Солженицына не целовал магаданскую землю, разве что принудительно, в гололед. Да и то прикосновения затылка не считаются.
Правда, ее едят — и эвены, и медведи. Съедобная глина закупоривает кишки зверя, отправляющегося на спячку до самой весны, защищает от нежелательных проникновений.
Прошло почти двадцать лет, как погибла та книголюбивая кнИгиня, и я вновь встречаю внешне похожую на нее молодую магаданку, память вспыхивает подобно толченому магнию — щечки-персик, ясные, глубокие глаза с характерным — елочкой — рисунком радужной оболочки! Зажигаюсь обманным клонным чувством симпатии. Разеваю рот — поговорить об Александре Исаиче, всплеске всеобщего интереса к персоне старца в связи с уходом, но так и стою с открытым ртом. Похожая, да не та! Кто она, вылитая Люба-книголюба, обещавшая найти деньги на издание моей книжки об наркодилерах? Может быть, ее дочь, скорее, внучка? Не привидение же явилось среди ясного дня, чур, меня, чур! (Кстати, улавливаете корень слова чурка ?)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу