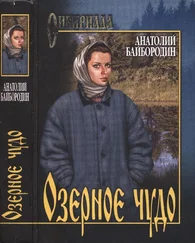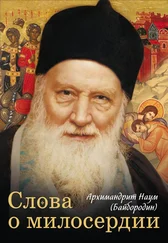Молодуха говорила легко, складно, будто читала на сто рядов читанный-перечитанный талмуд; спрашивала и отвечала по-свойски доверчиво, как если бы не только что сошла с автобуса, поднялась в избу и перецеловалась с домочадцами, а жила тут вечно, лишь на месяц, другой отлучалась в город, где и набралась тамошнего форса, приоделась, научилась беспрестанно казать улыбку, при этом хороня глаза в темном холодке.
— О-ой!.. — мать замахала руками, испуганно округлив глаза. — Да ты чо, Марусенька, он же эти штанишонки ходом в грязи извозит. Это давно ли майчонку одел, а уж чернее сажи. Ну-ка, иди сними да одень другую, не позорь меня перед гостями. Эти брюки ему будут как раз на один день, вечером уж не признашь. Не-е, пусть уж лучше полежат пока… Беда с ним, такая, прости Господи, простофиля…. Уродился же чудечко на блюдечке… Как будет жить, ума не приложу. Старшие-то все удалые росли, семь дырок на одном месте провертят, а этот даже и не знай в кого. Разве что в братана моего, Ивана. Тот ему крёстный. На кордоне лесничит. Тоже непутевый… Ванюшка у меня поздонушка, отхончик.
— Это как понять? — улыбнулась молодуха.
— Последний парень. Маленький-то задохлик был, замористый такой, а счас ничо, выправляться стал. К ребятишкам припарился. Да тоже беда, вечно куда-нибудь залезет, всю одежонку испластат, а то еще и наколотят соседские парнишки.
2
В горнице плавал и переливался тихий закатный свет, и на стене напротив окна пятнами млела, чуть приметно колыхалась тень от фикусовых листьев. Мать и гостья сидели за круглым столом, покрытым тяжелой, вишневого цвета, плюшевой скатертью, и судачили, как могут судачить бабы, когда им выпадет редкий час на это, перебирая степенно всё, что подвернется на язык; так мать иной раз под вечер, когда не случится дома отца и, вроде, все дела на сегодня переделаны, чаевничала со своей подружкой Варушей Сёмкиной, сумерничала, разводя в мягко темнеющей избе долгие бабьи пересуды, перемывая косточки соседские, обсуждая с жалостью чьи-то изломанные судьбы, отчего свои, какими бы тяжелыми не были, казались легче. Невестка, хоть и молодая, городская, умело, почти по-деревенски цепляя слово за слово, плела тянучий разговор, для которого ей и матери не хватало только лиственничной серы, чтобы между словами жевать ее, вкусно, с лихим подсосом прищелкивая, или не хватало папироски, какую мать, как она сама выражалась, портила за компанию с Варушей, и, наконец, не помешал бы и горячий самовар и полные чашки свежезаваренного, забеленного козьим молоком крепкого чая. За разговором молодуха неприметно выпытала и про здешнюю жизнь, и про соседей, и про снабжение и цены, и даже про то, много ли свекор получает, торгуя керосином, и какой доход идет от рыбы, которую отец, засоленную в бочках, переправлял с шоферами в город. Мать только диву давалась: экая боевая, языкастая да головастая попалась невестка, вся в тятю своего Исая Самуилыча; но тут же и подозрительно оглядывала ее смуглую, холеную красу, косилась и вроде приговаривала про себя: ой, однако, девушка, ты, гляжу, и без мыла в душу влезешь и ножки свесишь. Но, увязая в тугой и теплой паутине разговора, тая в мягком взгляде больших, сумеречных глаз, мать забывала о своем подозрении, потом вспоминала и снова забывала, убаюканная плавным, нездешним говорком, и вдруг опять спохватывалась — за мягкой обличкой таилось в молодухе прохладное, по-рыбьи ускользающее, что и не ухватить сразу. Она между делом бегло, но цепко осмотрела небольшую — корова ляжет и хвост некуда протянуть — темную горницу, скосилась в куть. Изба лишь с улицы гляделась просторной, внутри же большую волю отхватила кухня с курятником, с широкой лавкой, с буфетом во весь красный угол, где посвечивали иконы, а полизбы к тому же забрала матушка-печь, так что для горницы и для запечного кутка и осталось-то всего ничего.
— Нам эта изба еще от свёкра досталась, — пояснила мать.—Да не изба — амбар, где зерно в закромах припасали, а на лето овчины вешали. Это уж Петр венца три наростил да кухню прирубил.
— А куда дом девали, где жили родители Петра Каллистратовича?
— А никуда не дели, там давно уже Шлыковы живут. Когда свёкра, Царство ему Небесно, кулачили, дом деду Шлыкову и отошел. Тот смолоду ничо путем не делал, с ружьишком по тайге да на пече лежал, вот в бедняки и угодил. Избу ему и вырешили… Да ты его, Марусенька, видала, – вечно на лавочке сидит… Как кулачить стали, ой, девонька, такие тут страсти-ужасти пошли, помилуй, Господи! – мать торопливо перекрестилась на иконы, что виднелись из кухни. – Как нагрянули раскулачники – у нас их анчихристами звали, фармазонами, – да с имя и наши варнаки-бедняки, тоже христопродавцы ишо те… Как стали батюшку вместе с мамушкой из избы вытуривать, так батюшка и заупирался. А перед тем нажитое добро почли переписывать и таскать в телегу. Шаль свекрухину и поперли, и даже самовар…Но батюшка – горячий был, Царство ему Небесно, – за топор схватился. Но те фармазоны долго не чикались, скрутили, дали под микитки да на мороз всех и выпихнули. Даже и оболокчись путем не дали… О-ой, сколь пережили, страх Божий поминать…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)