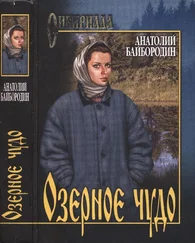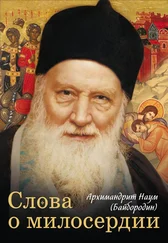Вскипятив воду на ветхой спиральной плитке, заварив в алюминиевой кружке чай, старик отпотчевал гостя казенными пирожками с ливером; сам же, спохватившись, выпил бурое, почти черное снадобье, перед тем тряской щепотью перекрестив его, бормоча по изжульканной бумажке молитовку:
— Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему Георгию, и избави от недуг и горьких болезней и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.
Выпив намоленное снадобье, переморщившись, старик вздохнул и с горечью оглядел свое скудное жилище, словно и повинное в его худом здоровье.
— Здоровьишко-то, Ваня, совсем прохудилось. Входит оно, паря, золотниками, а выходит пудами. Так от… Да и какое, Ваня, здоровье?! Всего жизнь порушила… Ну да, по грехам нашим…
Слушал Иван и, смущенно отводя глаза, дивился: Господи ты мой милостивый, Гоша ли Хуцан перед ним?!
— Там все здоровье оставил, — Гоша махнул рукой на дверь, от стужи обитой изнутри и снаружи драными, будто прострелянными, телогрейками с вылезшей из прорех ватой.— Да уж и годы, восьмой десяток перевалил. Ох, беда, беда… Вот и свет покатился из глаз, не ослепнуть бы, а то ить, Ваня, некому будет и стакан воды подать…— старик безголосо, одними отмокшими глазами заплакал, и дрогнули, затряслись острые стариковы плечи.
Истаяла былая Гошина веселая дородность; перед Иваном, слезно ссутулившись, нахохлившись, сидел старик, который никак в воображении не сращивался с прежним Гошей, словно подменили жеребца-игреньку на древнего …кожа да кости…сивого мерина.
— Много я там пережил, много передумал… на отсидке-то. Семь лет отбухал. Сума да тюрьма довели до ума… А потом, и баптист один всё толковал мне про Бога. Не помню, за что и сидел… Вот я, как вышел, сперва к ним шатнулся. Обласкали… да ровно обгладали. Не глянулось, Ваня, – приторно не родно, – ну, я к своим и подался, к православным…
— К семейским, староверам?
— К каким, Ваня, староверам?! Ушла семейщина и быльем поросла. Они и при царе-то на ладан дышали, подробились, словно метла распущенная: на одной улице, бывало, по три толка да по три согласия. А те, которые за старый обряд цепляются, дак больше по привычке, по родству, а уж самой веры нету, спалилась в гарях. Не, я уж к нашей общей православной прислонился… Ладно, чо про меня толковать – я уж пепел, труха… Как ты, Ваня, поживаешь? Семья, поди, дети?
— Две дочери. Старшая школу закончила, на художника учится.
— Молодец… У вас, Краснобаевых, все ребята путние, работящие, не то что мой сынок, Левка. Слыхал, поди, чо утворил?..
— Ну, это при мне было, я тогда еще в деревне жил, — уклончиво отозвался Иван, намекая на погубленного братом Ревомира.
— Да не-е, — понял его Гоша, — не про то я. Он тут почише утворил… Вот ты, молодец, голодом-холодом жил, с пеленок нагляделся да натерпелся от батьки свово, прости ему Господи, а ить выучился, в люди вышел. Да смалу, паря, шибко смышленный рос, да такой язычный. С бабкой Маланьей, бывало, заспорите, а мы с Петром смеемся: что старый, то и малый, адли…. О лоняшнем году статейку твою читал в газете, как сельских богатеев кулачили. Кулаков, паря, выгораживаш, деда своего Калистрата. Ну да, каков поп, таков приход – одна родова. Оно, верно, наломали мы дров, ох, наломали… Но ты, милый мой, одну правду написал – кулачью, а была и другая —бедняцкая…
— Правда всегда одна, – загорячился Иван, внук Калистрата Краснобаева, богатого забайкальского скотовода. – Правда была с крепкими мужиками, с кулаками… Это зажиревшие дворяне да прокуренные, чахоточные разночинцы предали и Бога, и царя. А крестьяне что, крестьяне – дети земли. Вот их большевики ваши и принесли в жертву… да еще батюшек приходских. А дворяне да наша гнилая интеллигенция – эти за что бороли на то и напоролись.
— Скажу тебе, Ваня, и среди кулачья случались похлесче бар: иной трудом своим хлеб добывал, другой на батрачьей шее ехал.
— Может быть, – поморщился кулацкий внук, – но голытьба, которая с наганами бегала, разоряла крепкие хозяйства – лодыри да пьяницы.
— Ишь ты, ловко, — не желая воду в ступе толочь, снисходительно подивился Гоша и с близоруким прищуром вгляделся в молодого да раннего Ивана, — по-ученому, паря, рассуждаш… А мой-то Лёвка совсем с пути сбился. Как смалу пошел шарамыжничать да хулиганить, так и по сю пору не унялся. А уж и сам-то в летах… Как сел тогда за бедного мово сыночка…— Гоша махнул задрожжавшей рукой и, кое-как выудив из брюк замызганный платочек, стал вытирать слезы. – Отсидел, и пуще за волю взялся: и плут, и картежник, и ночной придорожник. Сколь уж раз садили… В последний раз вышел на свободу да чуть родного батю, жиган, на тот свет не спровадил. Да… Я же здесь лет пять, а перед тем в деревне, под городом жил. Там и домишко завел… Лёвка освободился …это уж после третьей ходки… и ко мне махом. Ох, и натерпелся я, паря, — кому сказать, не поверят. От наградил Бог сыночком!.. Как напьется, так и с кулачьем на отца кидатся. По соседям и спасался. Да… А уж пил всяку заразу: и деколон — кондяк с резьбой, говорит, — и политуру, и капли аптечны. Путем нигде не робил, пил да кутил. Вот ишо в карты играл. А как шары зальет, так и с кулаками на отца. А потом… – Гоша опять заплакал, – поверишь, не поверишь, отца родного в карты проиграл. Да… Ночью пришел со своими варнаками, двери ломом подперли, ставни придавили, а потом избенку и запалили… Слава Те Господи, соседи прибежали, выручили, а то бы так живьем и сгорел. От оно как… Опеть посадили, да так, поди, и сгниет на нарах… И я уж не жилец на белом свете.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)