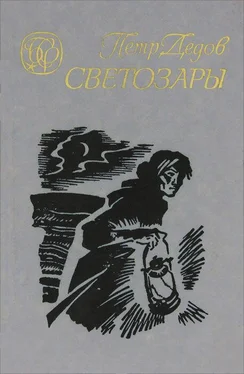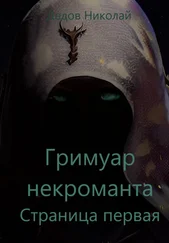От колхозных амбаров мы с мамой везли полтора мешка отходов. Мама больше не говорила ни слова, все молчала, закаменев лицом. И дома молча села на лавку, по своей привычке уставилась куда-то за дверь немигающими, невидящими глазами. Бабушка Федора сунулась было к ней с расспросами, но и без этого сразу все поняла. И, видно, как-то хотела разговорить, утешить сноху.
— А я уж и капустные листья приготовила, — улыбнулась она. — Думаю, быстренько пшеничку смелем — и заведу я квашонку, и напеку с новины буханок на поду, на капустных листиках, как, бывалоча, до войны. Помните? И уж вся измучилась. Думаю, неужели не получится, неужели позабыла, как хлебы пекут…
И только теперь мама уронила голову на стол, уткнулась лицом в ладони, и спина ее содрогнулась от вырвавшихся рыданий. Бабушка засуетилась вокруг, потом присела рядом, положила ей, как маленькой, на голову свою руку. А сама казалась подростком, девочкой рядом с большой и сильной мамой…
Глава 7
СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ…
Поэзией степного раздолья овеяна Кулунда!
Можно сутки идти и десять, но все так же будет далек и призрачно пуст горизонт, все так же будет тревожить сердце пронзительная даль, все так же будут кружить орлы над сивыми от ковыля загривками древних татарских курганов, и только одинокие березы осветят дорогу в ночи…
Густой синевою залита степь; мигает огонек одинокого костра. Пастух ли греется у огня, охотник ли там коротает ночь, и костер кажется в этой глухой степи единственным источником тепла и света.
Старичок поднимается от огня, шагнет навстречу:
— Далеко ли держишь путь, добрый молодец?
Потом пригласит «к столу», разложит на тряпице свой нехитрый ужин, нальет в жестяную кружку густого чаю, заваренного пахучими травами. И как хорошо после ужина лежать на охапке молодого сена, смотреть на звезды и думать о давних временах дикой степной вольницы, и радоваться одиночеству, свободе, тишине…
«Красный обоз» проезжал по нашей улице. Зрелище было не сказать чтобы шибко уж торжественное и радостное.
Впереди вереницею шли кони, впряженные в телеги, брички, арбы, ходки, на которых громоздились мешки с хлебом. Лошади до того были измотаны летними и осенними работами, что походили на скелеты, обтянутые шелудивыми, в темных струпьях, шкурами. Не лучше выглядели и быки, которые тащились следом. Они еле переставляли раскоряченные ноги с разбитыми копытами, головы их были пригнуты тяжелым ярмом.
На передней подводе развевался красный флаг, на некоторых других были прилажены тоже красные лозунги и транспаранты, на которых пестрели белые буквы: «Получай, Родина, наш сверхплановый хлеб!», «С радостью выполним полтора плана хлебопоставок!»
Мы, ребятня, увязались за повозками, переговаривались со знакомыми извозчиками, принаряженными по случаю торжества. Дед Тимофей Малыхин восседал на груде мешков в овчинной шубе и в лисьем казахском треухе. Стояла теплынь, пот катил со старика ручьями, но одежда полегче, видно, была у него в таком затрапезном виде, что в ней стыдно было показаться на люди.
Мокрына Коптева, напротив, одета была по-летнему и пылала маковым цветом: на ней красовалось алое платье, еще довоенное. Старый мой «приятель» бык Шаман, которым она управляла, косил назад закровенелым злобным глазом, готовый сорваться и разности бричку вмести с возницей: известно, что быки не выносят такой цвет. А когда Мокрына понукнула и подогнала Шамана вплотную к идущей впереди повозке, на которой краснел транспарант, бык не выдержал и заблажил. Он рванулся вперед, поддел рогом ненавистный ему кумачовый ромб и понесся в сторону, ломая чинный строй «красного обоза». Хорошо, что Мокрына успела соскочить с повозки и забежать вперед: она поймала Шамана за рога и так крутанула его упрямую башку, что у того отпала всякая охота блажить…
Но, пожалуй, главной причиной, из-за которой я и мои дружки тащились за обозом, был оркестр. Да, да, настоящий духовой оркестр! Его специально привезли к нам из райцентра, и сейчас оркестранты ехали впереди обоза на бричке, застланной не то большим ковром, не то расшитой казахской кошмою.
Мы впервые видели такое чудо. Начищенные медные трубы так и горели, так и плавились на солнце. На ухабах, когда бричка подпрыгивала, трубы эти отзывались то нежным звоном, то басовитым гудом.
Через некоторое время, выехав за околицу, музыканты пересядут на эмтээсовскую полуторку и укатят к себе в райцентр, а их место впереди «красного обоза» займет на своих дрожках колхозный председатель Никон Автономович Глиевой, почему-то решивший, что именно он главный виновник торжества… А пока что, при выезде из села, музыканты слезли со своей брички, пошли было пешим ходом, пристраивая свои трубы для игры, но скоро сбились в кучу, смешались, так как все они были в начищенных штиблетах, а по дороге недавно прошло утреннее стадо, и вся она была заляпана коровьими шевяками, которые еще дымились…
Читать дальше