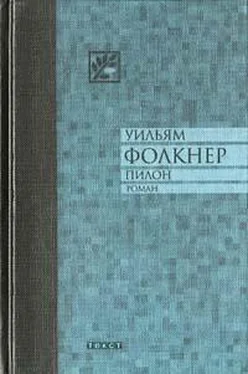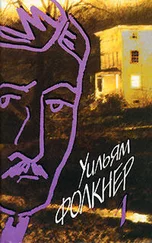Из заоконного переулка он, если бы прислушивался, мог бы услышать звуки, даже возгласы. Но он не прислушивался. В ушах его звучала лишь та громовая тишина, то гулкое одиночество, в котором душа пересекает вновь и вновь возникающий перед человеком извечный Рубикон его порока в миг после ужаса, но до того, как триумф сменяется смятением, – в миг, когда пария морали и духа выкрикивает свое слабенькое «Я – это я» в пустыню шанса и катастрофы. Он поднял бутыль; его горячие яркие глаза смотрели, как липкий стакан наполняется почти до половины; он выпил залпом, не разбавляя, потом, вслепую черпнув из лоханки несвежей и нечистой воды, выпил ее опять-таки залпом; на протяжении одной неистовой и безжалостно казненной секунды он думал о поисках и нахождении небольшой бутылки, которую он мог бы наполнить и носить с собой в мешке наряду с сапогами, грязной рубашкой, свитером и коробкой из-под сигар, в которой лежали кусок хозяйственного мыла, дешевая опасная бритва, плоскогубцы и моток изолированного провода, – но он не стал давать себе волю. «Будь я проклят, если я так поступлю!» – возопил он мысленно, хотя его безжалостное теперь нутро говорило ему, что самое большее через час он пожалеет об этом. «Будь я проклят, если я за спиной у человека выкраду его виски!» – воскликнул он, схватил мешок и опрометью сбежал с лестницы, являя собой воплощение бегства от искушения, пусть даже демонстрируемая им добродетель скорее воспользовалась временным ослаблением желания, нежели прочно его нейтрализовала, поскольку в тот момент ему выпить не хотелось, а захотеться должно было позже, когда он был бы уже в пятнадцати милях от бутыли. Он бежал не от настоятельной нужды в новой порции спиртного. «Не от этого я бегу, – сказал он себе, проносясь сквозь прихожую и приближаясь к уличной двери. – Нет, просто, хоть я и урод, я не всякое дерьмо буду кушать!» – крикнул он, окруженный тихим белым сиянием чести и гордости, рывком распахивая дверь и затем прыгая вперед и вверх, в то время как репортер, их пропавший было ночной хозяин, медленно валился в прихожую ему под ноги, как пять минут назад, когда дверь открыл парашютист, под ноги остальным. Шуман тогда вытащил репортера наружу, и дверь захлопнулась за ними сама; после этого репортер вновь полулежал, прислонясь к ней, – трудноописуемые волосы клоками свисали на лоб, глаза были мирно закрыты, рубашка и съехавший набок галстук кисло задубели от блевотины. Когда Джиггс, в свой черед, распахнул дверь, репортер неторопливо стал падать боком в прихожую, Шуман, наклонясь, подхватил его, Джиггс перепрыгнул через обоих, а дверь своим ходом опять захлопнулась.
После этого с Джиггсом произошло нечто странное и непредвиденное. Не то чтобы его решимость ослабла, не то чтобы его цель, его намерение сменилось противоположным. Скорее весь его устойчивый мир, сквозь который он, уходя от искушения и ничего не подозревая, победно и чистосердечно пробегал, вдруг совершил зловредный поворот на сто восемьдесят градусов в тот самый момент, когда он, прыгнув, завис над двумя мужчинами в дверном проеме; и само его тело словно бы тоже стало тогда зловредным и, не спросясь его, совершило посреди прыжка этакий кошачий поворот и явило перед ним слепую и неумолимую теперь дверную гладь, на которой, как на киноэкране, он увидел настолько отчетливо, что мог, казалось, дотронуться рукой, пустую комнату, стол и бутыль.
– Лови дверь! – крикнул он; казалось, он отскочил к ней вспять, еще даже не коснувшись плит тротуара, и стал скрести пальцами ее слепую поверхность. – Почему никто ее не поймал? – заорал он. – Почему вы не крикнули мне, черт вас дери?!
Но они на него даже не взглянули; теперь, наряду с Шуманом, над репортером склонился и парашютист.
– Ну что, – сказал Джиггс, – завтрак наш явился?
Они даже не посмотрели в его сторону.
– Так, – сказал парашютист. – Проверяй давай, что у него там, или отойди и дай я проверю.
– Постой, – сказал Джиггс. – Сперва надо как-нибудь его в дом.
Он перегнулся через них и опять толкнул дверь. Он даже и ключ видел сейчас, лежащий на столе подле бутыли, – предмет столь незначительный по размерам, что его, вероятно, можно даже проглотить, не шибко навредив себе при этом, который теперь даже в большей степени, чем бутыль, символизировал одинокое, дразнящее и яростное сожаление, постулируя недостижимость соблазна, отстоящего не на мили, а на дюймы; гамбит, так сказать, сам себя отверг, что привело его в смятение и поставило в зависимость от идиота, который даже не может войти в собственный дом.
Читать дальше