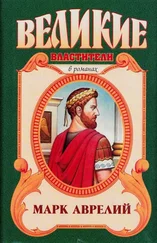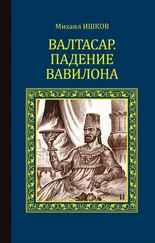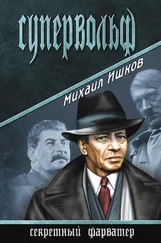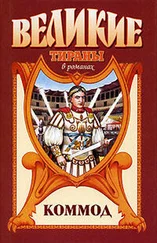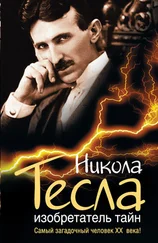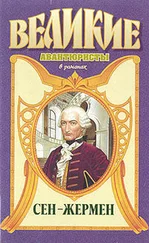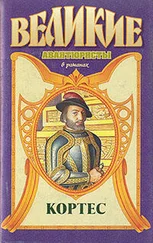И не свихнулся.
Помнишь, я читал его у тебя в один из моих нелегальных приездов в Москву? Кажется это было в апреле 1939 года. Признаюсь, я испытал тогда самую изощренную, самую жгучую муку, которую только может испытывать литератор.
Помнишь окончание романа, когда на крыше Пашкова дома появляется нелепый евангельский персонаж, напоминающий инструктора ЦК?
Помнишь его слова?
В них разгадка:
«… – Он прочитал сочинение мастера (подчеркнуто автором письма. – Примеч. соавт. ), – заговорил Левий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?
– Мне ничего не трудно сделать, – ответил Воланд, – и тебе это хорошо известно. – Он помолчал и добавил: – А что же вы не берете его к себе, в свет?
– Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным голосом проговорил Левий ».
Он понял намек.
И небезызвестный тебе Фадеев, прикинувшийся Левием Матвеем, тоже.
Я тоже.
Это был нокк-аут, Миша. Такую обиду может выдержать далеко не каждый.
Я выдержу, Миша. Я справлюсь. Меня простят, и я опять буду сочинять сценарии, но пьесы, тем более басни, никогда.
Ты слышишь, Михаил?
Ни-ког-да!!!
Я никогда не смогу воспользоваться твоей новой моралью.
Эх, дурак я дурак, как сказал твой боров, сумевший побывать на шабаше. Если бы раньше…
Ты думаешь, я не смог бы написать такую пьесу?
Смог бы, и ты это знаешь. Я сумел бы обойти тебя в юморе. Я переплюнул бы тебя в сюжете, в деталях, даже в ритме!..
Я уступил тебе в смелости, а трусость, по твоим же словам, есть самый страшный грех, каким человек может себя унизить».
* * *
Не помню, сколько раз я перечитал этот документ. Назвать его фальшивкой, не поворачивался язык. Даже если и так, пафос неотправленной исповеди был неотразим, как, впрочем, и убедительность догадки.
Кто написал его?
Во-первых, судя по дате, это был человек, который пережил Булгакова; во-вторых, очень близкий к адресату и, в-третьих, он писал пьесы, но пострадал за басни. Был сослан, но имел возможность посещать Москву.
Аналитика подсказала – кандидатур было две, и все-таки, как ни странно это звучит для поклонника истории, мне более по сердцу был некий сценарист, приятель Есенина, разделявший его имажинистские пристрастия; драматург, баснописец, любимец творческой Москвы и редкий остроумец.
Сами собой вспомнились незабвенные, убаюкивающие строчки:
Видишь, слон заснул у стула.
Танк забился под кровать,
Мама штепсель повернула.
Ты спокойно можешь спать.
За тебя не спят другие.
Дяди взрослые, большие.
За тебя сейчас не спит
Бородатый дядя Шмидт.
Он сидит за самоваром —
Двадцать восемь чашек в ряд, —
И за чашками герои
О геройстве говорят.
Льется мерная беседа
Лучших сталинских сынов,
И сияют в самоваре
Двадцать восемь орденов.
«Тайн, товарищи, в природе
Не должно, конечно, быть.
Если тайны есть в природе.
Значит, нужно их открыть».
Это Шмидт, напившись чаю.
Говорит героям.
И герои отвечают:
«Хорошо, откроем».
Я лежал на диване, закинув руки за голову…
Всласть выговаривал…
Перед тем как открывать.
Чтоб набраться силы,
Все ложатся на кровать.
Как вот ты, мой милый.
Спят герои, с ними Шмидт
На медвежьей шкуре спит.
В миллионах разных спален
Спят все люди на земле…
Лишь один товарищ Сталин
Никогда не спит в Кремле.
* * *
Да, этот сумел бы!..
Литература, поселившаяся в моей комнате, подтвердила – да, у этого могло получиться…
Этой литературе можно было верить. Это добротная литература. С клеймом вечности. Вне всяких потуг на рыночный успех.
История вкупе с вечностью поддержали – этот могё-ё-ё-т.
Мне было нелегко согласиться с ними. Камнем тянули вниз привычки, литературные предрассудки, устоявшиеся стереотипы, желание срубить бабло, хотя против вечности не попрешь. Мне однажды повезло познакомиться с ней на даче у Николая Михайловича Трущева.
Это было страшное зрелище, поэтому я не стал спешить с выводами. Существующие разногласия можно было развеять с помощью Рылеева.
У меня не было выбора.
Засыпая пришло на ум:
Вот так и мы порой, как комики,
Ответа ищем в экономике…
Часть II. Прощание «Славянки» с «Варшавянкой»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу