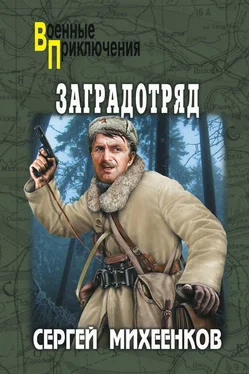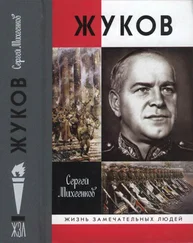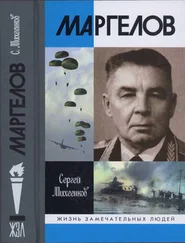Теперь, сидя в сыром окопе у деревни Малеево, он почему-то вспомнил не Машу и не сына, а Таню, жену Бориса. Вернее, его вдову. Вот ведь и проводить не пришла. Внука не привела.
Борис ушёл на фронт ещё летом. Пришло два письма. Шли бои под Смоленском и Витебском. Борис попал именно туда. Их маршевую роту влили в один из потрёпанных полков и бросили в бой.
Теперь, наблюдая фронтовую жизнь и одновременно живя ею, Хаустов постепенно восстанавливал в своём воображении наиболее вероятную картину гибели сына. Эти реконструкции настолько поглотили его, что им, и только им, он уделял каждую минуту свободного времени. Курил солдатскую махорку (небольшой запас «Герцеговины флор» закончился быстро) и думал, думал, думал… Никто даже не догадывался, что московский профессор сокрушает свою душу печалью о сыне. Сам Хаустов считал, что и не нужно, чтобы кто-то знал о его утрате. У многих сейчас погибли родственники, без вести пропали близкие. И рассказывать кому-то постороннему и чужому о своей незаживающей боли он считал совершенно неуместным. Постепенно он понял, что Борис, мысли о нём – это и есть та тайная свобода, куда можно бежать в лучшие минуты жизни на войне, если они здесь возможны, и ею надо дорожить и оберегать её. Потом его мысли переключались на внука. Он думал и о невестке. Глебушка… Каким он вырастет?
Ведь это совершенно неразумно, с точки зрения военной, и слишком жестоко по-человечески – бросать маршевую роту, целиком, сразу в бой. Куда правильнее по прибытии на передовую расформировывать эти маршевые роты по батальонам, по стрелковым ротам, по взводам. Марш завершён, пополнение прибыло организованным порядком. А теперь начинается война. И лучше было бы, если бы новоприбывшие оказывались в окопе рядом с бывальцами, теми, кто пороху уже нюхнул и может дать совет молодым, как вести себя в бою, как пережить бомбёжку или артобстрел, как передвигаться и как вести огонь. Русская армия всегда держалась на том, что новобранец поручался старослужащему солдату, дядьке, который и воспитывал его, и бранил, и поощрял. Главное поощрение, самая большая награда на войне для солдата – это его жизнь, которую он вынес из боя невредимой и не опозоренной малодушием. Сотни раз Хаустов представлял, какими могли быть последние мгновения жизни Бориса, и каждый раз это была другая картина. Только черты лица сына, его глаза и губы всегда были теми же, которые он знал. Но иногда их размывала какая-то даль. И Хаустов начинал мысленно молиться и за погибшего, и за себя, чтобы потеря, какой бы непоправимой она ни была, не стёрла в его памяти образ самого дорогого ему человека.
– Ну, сынок, вот и мой черёд настал. – И Хаустов обмахнул масляной протиркой затвор винтовки.
Сумерки в октябре случаются долгими. Вот и эти, кажется, нависли где-то вдалеке, в укромных лощинах и деревенских проулках и не торопились на простор. И колонна, которая потекла из-за перелеска в поле, сразу заполняя всю ширь и даль дороги, делая её и неширокой, и недлинной, роте старшего лейтенанта Мотовилова была хорошо видна. Как днём.
Остатки боевого охранения ввалились на НП старшего лейтенанта Мотовилова в тот момент боя, когда и в поле, и перед деревней, и у моста, и по всему береговому обрезу громыхало и полыхало. Пальба шла вовсю. То и дело вспыхивали, то короткими, цепкими и осмысленными, то длинными и бестолковыми очередями пулемёты на флангах. То рвались снаряды, осыпая осколками траншею и калеча тех, кто не успел вовремя нырнуть в окоп. Мотовилов кинулся было к пулемёту. Морозова он отправил в тыл, и пулемёт остался без призора. Но потом взял себя в руки и начал наблюдать за ходом боя в бинокль. Время от времени к нему подскакивал сержант-артиллерист, кричал что-то, но он снова и снова осаживал его:
– Не время! Пускай поверят, что мы тут одни!
– Понял! – отвечал, вроде бы успокаиваясь, артиллерист, и кричал в трубку, уточняя новый прицел, потому что танки подошли уже вплотную к ложбинке перед мостом, где сапёры сошлись с немецкими мотоциклистами и где теперь они маневрировали, выбирая цели. Но проходило не больше минуты, и сержант снова кидался к Мотовилову и, бледнея, требовал разрешить открыть огонь, потому что, если танки сместятся вправо, за насыпь, орудие из лощины их не достанет.
Но Мотовилов знал, что правее они не сместятся. Во-первых, по ним уже вели огонь бронебойки, и бока им подставлять танки не хотели. А во-вторых, и это было решающим, они стояли перед переездом. Соблазнял и мост. Мост почему-то до сих пор был не взорван. И Мотовилов нервничал. Но отхода сапёров он не наблюдал. Значит, приказ помнят. Значит, ещё сидят там, внизу, ждут более удобного момента. Брод тоже был хорошенько заминирован. Дважды к нему подбегали немецкие пехотинцы, скорее всего сапёры. Но их тут же отгоняли сосредоточенным огнём «гочкисы». Как ни плох был этот пулемёт, а всё же стрелял.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу