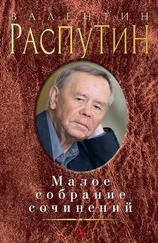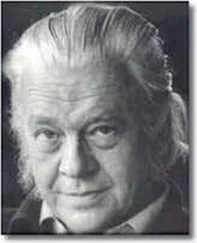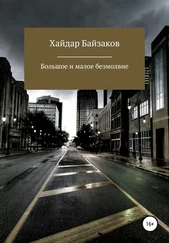Елеонора, каким-то чудом сумевшая высветлиться в соломенную блондинку, с подстриженной челкой и нарисованными бровями и даже с мушкой на щеке, как у мадам Помпадур, сидела на лучшем месте за серединой стола, единственного на весь холл. Вокруг грудились как сидячие, так и бродячие, Елеонора тараторила без перерыва на отдых, вещая про себя, соседей, знакомых, незнакомых, и всё с генитальным уклоном, и допускала только краткие возгласы изумления и пресекала дилетантские попытки иных соло. Слушающие тоже предпочитали Елеонору и нетерпеливо обрывали всех вклинивающихся:
— Да погоди ты! Давай, Елена, давай!
Елеонора давала:
— Я выщипываюсь, чтобы везде гладенько. А то натирают. Заботу нужно проявлять, чтобы самим лучше.
— Для кого тут проявлять! — воскликнула дама.
— А мы не знаем, — сказала Елеонора. — Вот и в Евангелии написано. Про пять дев бодрствующих. А пять заснули. А жених пришел. А зачем пришел? За этим и пришел, когда понадобилось. А они готовенькие. Со светильниками.
— А что, там еще и освещать надо? — удивилась деваха.
— Кому как, — таинственно ответствовала Елеонора. — Дороги не знаешь, так и не найдешь.
— Ну, милочка моя, вы что-то такое не такое! — усомнилась дама. — Наоборот, стараются в темноте, да еще зажмуриваются.
— С какой стати? Я всегда смотрю. Я освещаю. Чтобы без всякой халтуры.
— Доченька, а халтура-то — она какая? — зачаровалась старушка.
— А тебе зачем? — сразила старушенцию краснознаменная баба. — Заросло, так не мешай!
— То-то и оно, — хохотнула старушка. — Опять в девках, стало быть.
— Ох, бабы, да хоть бы и с халтурой, хоть бы как! — дрогнул кто-то от воспоминаний, и общая судорога прошла по телам.
Елеонора замерла и вытаращилась. Все качнулось в какую-то жаркую тьму.
— У-у-у… — завыла Елеонора, сцепив зубы. — Не могу-уу…
Все сгрудились теснее, налегли на стол, задрожали в бедрах, стали хватать чьи-то плечи, кто-то, нависая на прочих, обрел невесомость и погрузился во внутренний пламень, более механистичные искали ненужных поцелуев, кто-то оказался под столом и поливал слезами восторга Елеонорины костлявые коленки, в черную воронку устрашающе рванулась наготовленная энергия, светильник дня погас, случайно задержавшуюся рядом Лушку поволокло в неожиданную бездну, где-то далеко в ногах цеплялся предостерегающий ужас, ужас звал на помощь бабку и сына, а они не имели сил пробиться к беде и пульсировали вдали.
Эта разинутая свинья! — рванулась Лушка к Елеоноре. Эти несчастные дуры! Несостоявшиеся потаскухи!.. Лушка расшвыряла их напряженное кольцо, они корчились разрубленным червем, Лушка вскочила на стол и топала там, чтобы повернулись к ней и услышали:
— Миленькие… Сволочи, заразы! Родненькие!..
Черное горло воронки стало задыхаться. Вихрь распался на частности.
— Клячи столетние! — вопила Лушка. — Вовсе собрались спятить, параноики?.. Слушай сюда, отрыжки голодные! По всей России забастовки, а вы что? А ну! Вы нормальные бабы, вам нужен мужик!
— Мне нужен мужик! — подхватила революционная женщина, становясь впереди и мощной рукой вскидывая вверх краснознаменное древко. — Даешь забастовку! За мной, бабий пролетариат! Весь мир с нами соединится! Даешь мужика!..
Революционное знамя рванулось вперед, за ним сплотились кто был, из палат выбегали отставшие, революция сотрясла железо решеток, дежурную сестру сдуло в какую-то дверь.
Хоровой женский лозунг распирал стены:
— Даешь мужика!..
Опять я во что-то вляпалась, подумала Лушка, спрыгивая с броневика и разворачиваясь спиной к бастующим.
Она прикрыла за собой дверь палаты и подумала, что сегодня никаких посетителей не пустят, и она не сможет передать Людмиле Михайловне Марьину тетрадь, и нужно ее куда-то перепрятать, пока все митингуют. Она уже не уверена, останется ли в этом отделении хотя бы на ночь, обратная память только сейчас четко представила, как Лушка агитирует со стола, а дежурная сестра смотрит издали, расстреливая в упор, и торопливо хватает телефонную трубку. И не объяснишь, им вообще никому не расскажешь, и не только потому, что после этого Лушку посчитают вывихнутой во всех отношениях, а просто потому, что ей этих баб жалко, и закладывать она не желает в принципе, и вообще опять влезла поперек, а, может быть, было не надо.
Но как же, Господи Боженька, должна была слушать Елеонору несчастная Марья, всю дорогу блюдущая здесь целомудрие и перевоспитывающая псих-президента, ведь тут не повернешься спиной и не хлопнешь дверью, и некуда даже стошниться. Нет, не могла Лушка не выскочить и не помочь хотя бы ей. Да какая тут помощь, — просто хотя бы за нее не согласиться, крикнуть этой похотливой стерве Марьино «нет». Ну и всё, и нечего больше об этом, я не хочу своего изменить, и пусть будет что будет — ну и принимай, стало быть, то, что от этого воспроизойдет.
Читать дальше