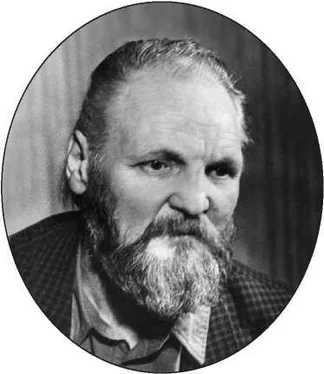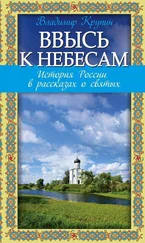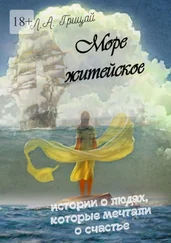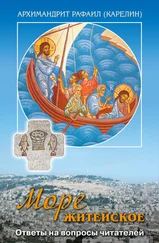- Нет, - сказала Валя, - я так не могу. Мне надо из чего-то.
И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся - заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнес любимой.
Она напилась. И мы поцеловались.
Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошел тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.
Тебя звали Галя. А подлинное твое имя - Миннугуль, то есть, в переводе с татарского, Цветок с родинкой. У вас в семье были только девочки, четыре сестры: Минура, Фатима, Миннугуль и Фагиля. Все красавицы редчайшие. Все отличницы. Но самой красивой была ты, Галя. После школы ты, золотая медалистка, пришла работать корректором в районную газету, где я уже работал литсотрудником. Тогда я и понятия не имел, что нравлюсь тебе: был влюблен в библиотекаршу Валю. Скрыть это было невозможно, я и не скрывал, звонил в библиотеку из редакции, договаривался о встрече. «Сколько же мне было страданий, когда ты ей звонил», - говорила ты потом.
Однажды ответственный секретарь редакции Владимир Петрович послал меня к тебе с гранками для вычитки. Ты болела и читала их дома. В переулке Горького я нашел ваш маленький домик. Маленький и бедный снаружи, он был необыкновенно чист и наряден внутри. Валенки сами собой соскочили у меня с ног. Я стоял на цветных половиках, здоровался с грузной и суровой твоей матерью и объяснял ей, что принес Гале работу. И увидел тебя, выскочившую в переднюю в длинном татарском халате и резко покрасневшую, и в повороте взметнувшую огромной россыпью черных волос. Потом ты говорила, что именно тогда мать заметила твое чувство ко мне, и, когда я ушел, она сказала: «Убью, если выйдешь замуж за русского».
Следующим летом ты уехала поступать в институт и, конечно, с ходу поступила. А с библиотекаршей Валей все было покончено. И не по моей вине. И ее не виню: она была старше меня, а я уходил в армию, а это еще три года. Друзья и стихи помогли залечить рану, и вскоре сердце мое, хотя и ныло слегка, стало свободным. Тут в редакцию пришло письмо от Гали. Оно было как бы всем, но Владимир Петрович сказал: «Это Галя тебе написала». - «Да ну!» «Что “да ну”? Читай: “А кто сейчас носит гранки корректору, когда она болеет и сидит дома?”» - «И что?» -«Как и что? У нас теперь ее сестра работает, Фагиля. А тогда кто носил Гале гранки? Не доходит?» - «И что? Могла и сторожиха отнести. Вы же обычно ее посылали. Мне сказали: “Беги, помоложе”. Я вам просто под руку подвернулся». - «Обычно! Да только ты один, дурак, не знаешь, что Галя тебя любит».
Эти слова меня ошеломили. Оказывается, я любим. Да еще и крепко, как говорит Владимир Петрович.
Дома я долго смотрел на фотографию нашего выпуска. Мы учились в соседних классах. Конечно, Галя была самая красивая из всего выпуска. Как я, действительно дурак, этого не замечал?
Назавтра Владимир Петрович велел мне написать Гале ответ. Это было легко, я же не от себя писал, а «от имени и по поручению всегда тебя помнящего коллектива». Постарался весело рассказать о всегдашних наших страданиях: ломается часто печатная машина, бумага кончается, а дорогу на станцию замело и не чистят. В конце написал такую фразу: «Теперешняя корректорша не болеет, но если б и заболела, я бы гранки не понес, пусть несет сторожиха, так как тебя в твоем доме уже нет». На конверте написал обратный адрес уже не редакции, а свой. И Галя ответила уже только мне. Писала о городе, в котором учится, о грусти по нашему селу. «Очень скучаю». Это было подчеркнуто.
Переписка разгорелась. Вначале я воображал, что люблю Галю (долго ли поэту вообразить чувство?), потом понял, что влюбился, писал ей стихи, и однажды она написала: «Скрывать мне от тебя совершенно нечего: люблю тебя». Думаю, во всю следующую жизнь я не написал столько писем, сколько ей. Белые птицы конвертов летали над Россией.
Она не смогла, не было денег на дорогу, приехать на каникулы, работала в студенческом отряде, а меня Родина призвала в Советскую армию. И письма мои все стремились к ней. И встречались с теми, что посылались ею. Где мои письма, не знаю, а судьба Галиных писем печальна. Их просто-напросто старшина извлек из тумбочки и приказал сжечь. Я сказал: «Сам не буду». Старшина Липа, такая у него была фамилия, хладнокровно объявил мне три наряда вне очереди. Самое, может быть, тоскливое армейское стихотворение, я его не помню целиком, было: «Грею руки над костром из твоих писем, мне без них и горе и беда...»
Читать дальше