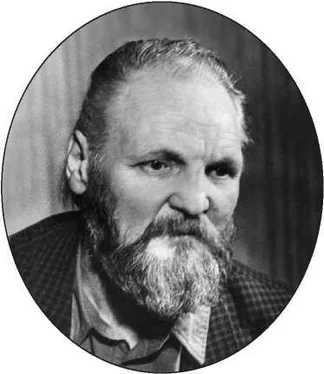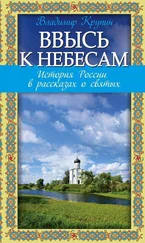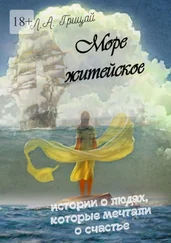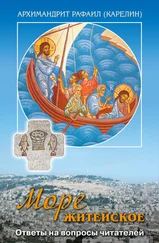Жена Гены Валентина уставляла стол банками и тарелками.
- Ой, - говорила она, - ой, хоть расскажи, чего нам ждать-то? А мы живем, живем и умирать не собираемся. Да как хоть это, да чего, хоть это в мире-то? Чего так все наперекосяк, или уж все к концу, уж вроде того, что ложись да помирай, а? А пожить-то охота, а? Никто ведь туда сам не совался, одни безумцы. Ой, ведь нас до того довели, что воздухом дышим и радуемся, что хоть за него не платим.
Гена, я видел, понимал ее. Он постоянно курил, щурился и поглядывал на стол.
- И чего звонишь, - вставлял он в крохотные паузы Валентининого выступления, - чего распространяешься?
- А ты бы молчал, - говорила ему Валя. - Мы скоро по миру пойдем, а цыгане все тут займут. - И объясняла мне: - Цыгане скоро начнут золотые зубы лошадям вставлять. Ходят, жалуются, что бедные, а уйдут, глядишь - мы бедные. А раньше: вот мать за сушками посылает. Лом, сушки, розовые, ванильные, насыплют в передник, сумок не было. Раньше только нищие с сумками ходили, теперь все с сумками. По четыре часа за самоваром сидели. А разговоров!
С радостью отведал я деревенской сметаны, напился совершенно черного чая и заторопился в Аргыж.
- Не хочу я в Аргыж, - сказал Гена. - Как вспомню, как к дядьке за куском хлеба бегал, а потом всю жизнь отрабатывал. Крест делал на могилу - думаю: вот, рассчитался.
Но Валя погнала Гену со мной. Я пошел босиком, он надел калоши. Вначале прошли через улицу, на которой стоял дом дедушки, в котором родилась моя мама, куда я много раз приезжал и с нею, и один, когда стал постарше.
- А родник жив? - кричал я Гене.
- Еле-еле. Раскопать можно.
Вместо прежнего дома стоял крохотный, чуть больше сарайчика, домик. Запущенный до последней степени. Двора не было. Калитка была, но никакого забора, и она жила сама по себе, барыней, никто ее не тревожил. Крыльцо было сгнившим, дверь в избу прикручена к гвоздю, забитому в стену, проволокой. У крыльца валялся дырявый рукомойник. Старинный, с лоточком для воды.
- Прежний? - закричал я. - Дедушкин?
- Ну, - подтвердил Гена. - В Москву повези.
Я прицепил рукомойник к стене, огляделся. Вот тут, где лебеда и крапива, был погреб, куда меня брала бабушка Саша и все потчевала чем-нибудь вкусненьким. Помню, сметану счерпывал сверху из широкого горшка. А тут стоял сарай для сена, в нем и куры жили, тут дровяник. За этими зарослями одичавшей смородины, бузины, крапивы, среди просторного огорода была банька. За огородом - картофельное поле. Дальше просторы засеянной земли, перелески. По ним шла и конная, и пешая дорога к Вятке. Прямо от огорода начиналась тропинка. Но и она исчезла. Все исчезло.
- А баня где была?
- Вон, - махнул Гена рукой к зарослям бузины. - Вспомнил, как мылся?
- Да я подумал, что наши матери, может, в ней были рождены! Не было же акушерки, в роддом не возили. Топили баню, бабка лучше любого врача принимала.
Пересилив мой крик, оглушая ревом и задымливая пространство, на низкой высоте пронесся темно-зеленый вертолет.
- Охрана! - объяснил Гена. - Здесь же газопровод. Каждые полчаса, иногда чаще, летают. Туда и сюда. Диверсии боятся.
- А в Мелети есть газ?
- Откуда?
- Отсюда! Значит, искалечили землю, перепахали все, обгородили и газа не дали?
Гена махнул рукой. Пошли в гору. Вскоре я устал кричать ему на ухо, то в правое, то в левое. Замолчал.. Глядел вокруг. Ведь все поля здесь в ту, незабываемую мелетскую эпоху я исходил, изъездил на комбайне, на машинах, на лошадях. Ничего не узнавал.
- Тянет, значит, сюда? - спросил Гена.
- Так еще бы не тянуло, тут такой магнит, - закричал я и повел рукой, показывая вокруг. - Детство же! Тянет. Свиней пасли. Курить научился. В Вятке чуть не утонул, когда вы меня из лодки выкинули. Спасибо, плавать научился. В морях и океанах пригодилось.
- Железа, значит, в тебе много, раз магнитит.
- Много: яблоки-то вместе воровали.
- Чего было не жить, - горько говорил Гена, загребая калошами мокрый дорожный песок, - такие поля, такие луга. Рыбы всякой, что в реке, что в пруду, что в озерах. Коров держали, овец, гусей на воде белым-бело, как снег. Жили-жили, дожили! Говорят: все это нерентабельно. И все порушили. - Гена опять закурил. - Я вот живу, выработал правило: жить без дерготни. Кто тебя из себя выводит - от того отойди. Отхожу. Но! Иной раз думаю - кожа от головы отделяется: как же все так, все против нас? Одни тунеядцы живут, а работяг истребляют. Что хоть вы там в Москве своей головой думаете?
И снова долго шагали под марлевым дождем, по мокрому песку. Да, памятна эта дорога. По ней неслись наши сани, когда мы похоронили дедушку Семена, это было зимой, по ней, в другие времена, мчался мотоцикл, за рулем мой старший брат, я сзади. Мы попали в размытую глину, и нас выкинуло с сидений, как со взбрыкнувшего коня. А как ощутимо билось сердце, когда бежал здесь на вечерку, надеясь увидеть ту, которая днем приезжала к комбайну за зерном и весело кричала: «Не заваливай!»
Читать дальше