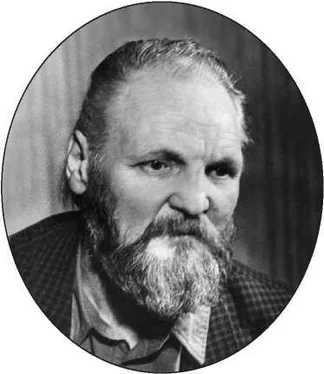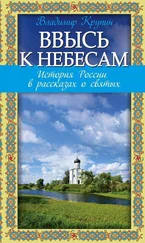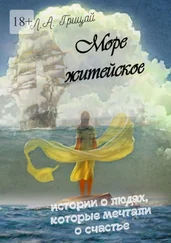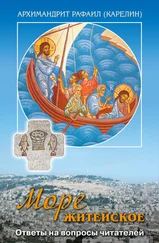Все уходит. А как иначе? Мы первые предали и печки, и сельские труды.
И Сивку-Бурку, вещую каурку. Желание комфортности жизни повело к ее опреснению. И к безполезности жизни. Вот сейчас: выросли, старятся дети перестройки. Было им в восемьдесят пятом, допустим, десять лет. Сейчас сорок и за сорок. Цели нет, пустой ум. И воспитанная либералами ненависть к «совкам». Сын родной ляпает мне: «Вы жили во лжи». - «А ты в чем? Ватники мы? Так ватник стократно лучше любой синтетики».
РАЗДАЕТСЯ ЗВОНОК. Толя: «Записывай. Диктую: Не слыша ангельского пенья из мглы заплаканных небес, я говорю в канун Успенья: “Ты почему, мой друг, не здесь? В селенье, на забавы тощем, мы прежний вспомнили бы пыл. И ты стенанья милой тещи хотя б на время позабыл. Я б для тебя, мой друг, поджарил вкуснейший самый кабачок. И в холодильнике б нашарил кой-что, что валит на бочок. Тогда бы ангельское пенье мы слышать стали бы с небес, сердечно б встретили Успенье... Ты почему, мой друг, не здесь?”»
И таких и подобных экспромтов у него были десятки. Многие пропали, а этот записал. Толя мне сострадает, что сижу, прикованный к теще, ее не оставишь: Надя на работе. Но я даже радуюсь, что могу этим защититься от постоянных просьб куда-то пойти, где-то выступить. Я же сижу с ней и худо-бедно что-то делаю. А не делаю, так читаю. Вот сейчас Гончарова. Пишет Майковым из Мариенбада: «Я старик». А ему всего сорок пять.
И до чего же все писатели мнительны. Будто бы к нему на чтения Тургенев посылал своих агентов и что идеи Гончарова потом использовал. Конечно, Гончаров куда как сильнее Тургенева, но и Тургенев неплох. Вот как мы от богатства нашего рассуждаем.
СНОВА ЗВОНОК, снова Толя: «Записывай еще! Разговор с твоей тещей: “Я и сейчас еще рисковый: нетленки запросто творю. Не осуждай меня, Прасковья, когда с Володей говорю. Еще мы в ящик не сыграли, как прежде, душами близки, да вот на Западном Урале я загибаюсь от тоски. Давно смогли мы породниться, он мне порой родни родней. Не Ницца здесь, психобольница, и я уж тридцать лет при ней. Я при больнице Всех скорбящих, душою тоже он скорбит. Пока мы не сыграли в ящик, пускай со мной поговорит”». Теща якобы отвечает, говоря мне: «Да, побеседуй с ним, Володя, ведь не чужим мне Толя был. Он стал своим мне в стары годы, когда в Никольском крышу крыл».
Это Толя вспоминает случай, когда мы с ним застелили шифером дырявую крышу сарая в Никольском. Крыша сильно протекала. Теща, конечно, сетовала. А шифер у меня был. Покрыли. И потом хлынул дождь. И как было мне не сочинить: «Какое счастье в сильный дождь войти в сухой сарай. Ну, Толя, ну, ядрена вошь, устроил теще рай».
А еще без улыбки не могу вспомнить экспромт этой осени. Мы ехали в Вятку: я с запада, Толя с востока. Приехал раньше, звоню ему: «Где ты сейчас?» - «Скоро Фаленки». А Фаленки - это для родителей двадцать лет жизни после Кильмези перед Вяткой. Это родина повестей «Живая вода», «Сороковой день». - «Поклон передай Фаленкам!»
Встречаю на вокзале, он сияющий: «Есть чем записать?» - «Так запомню».
- Фаленки, снега белизна. Бегут за поездом ребенки. Конечно, внуки Крупина. Голодные как собачонки. Ему до них и дела нет, он совести не слышит зова: его ждет царственный банкет в апартаментах у Сизова. - Это тебе мой ответ на Гребенки.
Это от нашей поездки в Кильмезь. Там по пути деревня Гребенки. Я и срифмовал: «Здесь курчавы детей головенки: побывал, значит, Гребнев в Гребенках».
А Сизов - это Владимир Сергеевич, ректор вуза, прекрасный писатель. У него на даче есть даже бассейн при бане. Или баня при бассейне. И прекрасная восточная красавица, жена Аниса. Может быть, благодаря ей он написал роман из средневековой китайской жизни.
А вот опять же из истории нашей дружбы с Гребневым: я Толин крестный отец. Крестился он в восьмидесятом в Волоколамске, у знакомого священника, отца Николая. А тогда было ничего не купить. Коммунисты не могли даже трусов нашить для населения, не говоря о народе. А как креститься не в новых трусах? А рано утром надо уже на электричку. И Надя где-то разыскала какую-то ткань и сшила трусы. Это было в день Божией Матери, и именно Гребневской. Это нас потом, когда увидели в календаре, поразило.
Были в церкви втроем. Потом пообедали с батюшкой. Потом поехали в Москву через Теряево, где Иосифо-Волоцкий монастырь. Толя был в необычайно восторженном состоянии. У монастыря пруды. Никого. Мы погрузились в воду в адамовых костюмах. Толя еще и от того, что не хотел мочить крестильные трусы. «Носить не посмею: Надя сшила, ночь не спала!»
Читать дальше