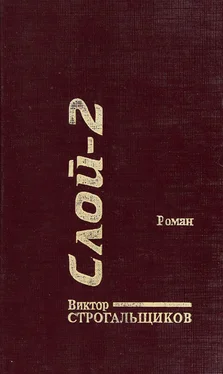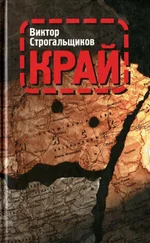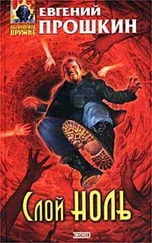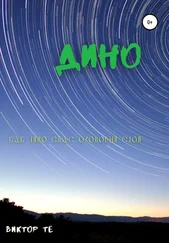Книги по истории давали Виктору Александровичу именно эту возможность – «услышать» живые голоса, без чужого пересказа. Но отдавал себе отчет, что не столько ищет там, в глубине, ответ на мучившие голову вопросы, сколько убегает, прячется в былом от сегодняшнего.
И еще: эти книги наполняли Слесаренко печальным и мудрым покоем. Какие люди, события и судьбы, какие страсти, драмы и надежды, взлеты и падения – и всё кончилось, всё давно уже кончилось...
Он так и заснул – под горящей лампочкой, с книгой на груди, и проснулся от внукова дерганья и смеха. Максимку собирали в садик, он бегал по комнатам в одном ботинке и уворачивался от ловивших его родителей.
Чернявский приехал в десять без предварительного звонка. Был озабочен, но уверен и легок в движениях. Пили кофе на кухне, Чернявский докладывал.
– Приступ купировали, давление стабилизировалось. Сегодня приезжать не надо; завтра переведут в обычную палату – съездишь, посидишь. Ну, фрукты, соки, как обычно. Короче, ситуация под контролем, – закончил «гусар» голосом Черномырдина.
– Идем на дно, настроение бодрое...
– Ты это брось, Витек, – угрожающе весело сказал Гарик. – А то я тебя тоже в больницу упрячу, только другого профиля. Скуксился ты, Саныч, с первого удара. Держать, держать надо, как в боксе!
Чернявский помахал кулаками у лица, закрываясь и делая мелкие выпады.
– Слушай, а давай мы их всех нагребём? – Чернявский перестал боксировать и наклонился над столом к Виктору Александровичу. – Бросай всё на хер и иди вице к Шепелину! Через год президентом станешь, мы с тобой всё строительство в городе в кулачок схапаем! Схапаем и зажмем, и хрен с кем поделимся. На твое место в Думе Терехина двинем, будет свой человек, да он и так свой, ставить некуда... И пошли они все мелким бисером! Зарплата – в десять раз больше твоих думских вшивых копеек.
– Я и сам об этом думаю, и давно, Гарик. Но... надо было раньше, сейчас нельзя, нельзя. Получится, что я сдался, что меня выкинули. Я так не хочу.
– Да брось ты, – поморщился «гусар». – Какое тебе дело до этих мудаков? Вот, блин, трагедия моральная... Оральная! Хрен им в зубы, Витя, кто они такие? Их завтра сметут, а ты останешься. Если делом займешься. Строители всегда нужны – хоть коммунистам, хоть капиталистам.
Всё это он и сам уже перепробовал за ночь, лежа рядом с женой и прислушиваясь к слабым сигналам ее дыхания.
Чернявский был прав, соглашаться же с ним не хотелось.
Но прав же, тысячу раз прав. Если и есть у него, Слесаренко Виктора Александровича, некоторое предназначение, то разве оно в доме на Первомайской? В этих бесконечных совещаниях и заседаниях, сплетнях и ругани, латании дыр и переливании из пустого в порожнее, бесконечных и бессмысленных встречах с неприятными и ненужными ему людьми? Он прикинул однажды и ужаснулся: на девяносто девять процентов его работа состояла из отрицательных слов и эмоций: нет, нельзя, не дам, вы не правы, не согласен, не положено... Разве это жизнь, разве можно жить постоянно заряженным отрицательно? Конечно же, существовал сподручный способ заслониться, укрыть себя бетонным зонтиком конечной цели, итогового смысла: благо города и горожан, забота о всех, пусть даже в ущерб отдельно каждому – время всех рассудит. Он иногда говорил об этом людям в кабинете, и получалось убеждать других, но себя всё меньше.
В его работе на износ, в его добровольной преданности этой проклятой работе была отравляющая примесь эгоизма. Он – главный, его дело – главное, его усталость важнее усталости жены, его слова и мысли дороже слов и мыслей сына, его здоровье самоценнее, пусть даже он и не жалуется никогда и никому...
Какая примесь? Основной замес, вся его жизнь замешана на его собственной неоспоримой первичности. Но если вдуматься хотя бы на миг, если набраться мужества и признать свою неправоту, творимую десятилетиями, выходило, что он жертвовал самым главным ради второстепенного. Ведь все всё забудут, сменятся мэр и депутаты, и никто их не вспомнит добром – так мы устроены, рады плюнуть вослед уходящим, и его, Слесаренко, тоже проклянут и забудут все, кроме тех, кем он жертвовал ради придуманного им самим так называемого долга: его родители так тихо и долго жившие и вдруг умершие в Омске – без него; жена Вера, лежащая сейчас в реанимации одна-одинешенька; взрослый грубоватый сын, весь в него, тоже погряз в бесконечных делах, невестка жалуется Вере, но не ему, он в семье комендант, кто же с болью идет к коменданту? И слепо, бессмысленно любящий деда Максимка, ибо нет в любви смысла, в настоящей любви, она беспричинна, там нет вопросов: «зачем» и «почему».
Читать дальше