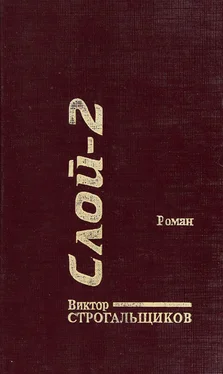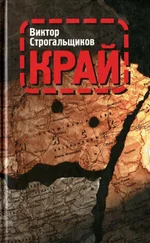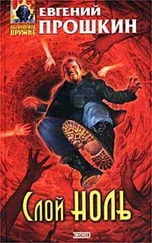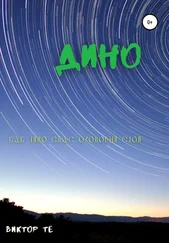– Чего смотреть-то, – сказала женщина в очереди. – Вот на витрине бутылка, читайте.
– На витрине не виден штрих-код, – спокойно ответил Лузгин.
Женщина быстро глянула на него злыми глазами и отвела взгляд в сторону, и вдруг вздрогнула, поднесла ладонь к губам:
– Господи, что делают-то!
Лузгин обернулся.
«Его» мальчишка стоял спиной у фонарного столба на обочине дороги, а другой, чуть повыше и тоже без шапки, левой рукой рвал на нем куртку, а правой бил по лицу прямо в нос маленьким жестким кулаком. Мальчишка уворачивался и стукался затылком о столб.
– Э, кончайте! – громко сказал Лузгин.
Нападавший пацан ударил «лузгинского» сбоку по ногам, и тот завалился на грязный асфальт, брыкался рваными кроссовками, но другой отступил немного в сторону и ударил мальчишку резиновым сапогом в лицо – один раз, как экзекутор, стоял и ждал продолжения. Мальчишка взвыл и замолчал, потом сел и потрогал лицо руками. И когда увидел на ладонях кровь, снова повалился на бок, поджал колени к животу и заплакал так громко, так по-детски безнадежно и горько, что у Лузгина потемнело в глазах.
Очень быстро он подошел к тому, другому, хватил его за шиворот и развернул к себе:
– Что ты делаешь, гаденыш?
Пацан посмотрел на него, как на дерево, полу-висел в лузгинском кулаке и даже не пытался вырваться.
– Вот я сейчас тебе самому как врежу!
– Давай, – сказал пацан, в его взгляде что-то мелькнуло. – Попробуй, дяденька.
Лузгин тряхнул его покрепче, сказал: «Ну и гадина же ты», – и несильно щелкнул в лоб пальцем левой руки. Пацан резко дернулся, сделал движение куда-то Лузгину под куртку, и в промежности выросла дикая боль, он даже подсел от неожиданности, но пацана не выпустил и сквозь навернувшиеся бессильные слезы увидел всё тот же темный взгляд звереныша.
– Конец тебе, парень, – прохрипел Лузгин, вздернул пацана за ворот и швырнул на асфальт как мешок.
На него налетели и сбоку, и сзади, схватили за руки. Лузгин барахтался в толпе, хрипел, что убьет, пытался съездить по морде особо досаждавшему мужику. Знакомое забытое лицо возникло перед ним, шевелило губами, но Лузгин не слышал ничего, только стук крови в ушах. Держали его крепко. Он вдруг обмяк, ощутив пустоту вместо бешенства, и услышал слова:
– Что ты, Вова!
Он посмотрел перед собой в лицо говорившему.
– Опомнись, Вова, он же ребенок.
– Нет, – сказал Лузгин, замотал головой и снова сказал: – Нет.
– Ну ладно, ладно...
Его отпустили. Забытый знакомый поднял с земли и сунул Лузгину в руки пакет с покупками, похлопал по плечу.
– Здорово, кумир. Эдак ты воскресенье проводишь?
Лузгин учуял легкий запах свежего спиртного, похоже, водки, прошелся глазами по серому пальто, шляпе с опущенными полями, косому углу галстука на вороте, треугольному скуластому лицу со щеточкой усов.
– Не узнаешь? А если так?
Человек снял шляпу и прикрыл усы двумя пальцами.
– О черт, – сказал Лузгин. – Привет, Баранов. Какого хрена ты тут делаешь?
– Нет, это ты какого хрена избиваешь на людях подрастающее поколение? Тебя же узнали, Вова, теперь разговоры пойдут. Неприятно, ты же у нас знаменитость.
– Да пошло оно всё, – отмахнулся Лузгин и посмотрел по сторонам: пацаны исчезли, публика на остановке стояла лицами к нему.
– Пошли отсюда.
– Это правильно, – согласился Баранов.
Они свернули за угол киосков, закурили. Пальцы ещё потряхивало.
– Продовольственный закуп? – спросил Баранов, кивнув на пакет.
Лузгин передернул плечами. Он никак не мог вспомнить имя Баранова и не знал, как к нему обращаться.
– Сколько лет не виделись?
– Да больше двадцати, – с готовностью подхватил тему Баранов. – После «Клавишей весны» в семьдесят пятом...
– Четвертом, – поправил Лузгин. – Я же помню, как нас разгоняли.
В начале семидесятых Лузгин служил в «Тюменском комсомольце» и вечерами чудачествовал в СТЭМе – студенческом театре миниатюр индустриального института. Баранов был на три года его моложе, доучивался на геофаке и вместе с Лузгиным играл у Аксельрода, легендарного стэмовского родоначальника, образы тупых преподавателей. У него это здорово получалось. «Скажите, милейший, что есть, по-вашему, экзамен?» – «Это разговор двух умных людей, профессор». – «А если один из них немножечко того?» – «Тогда другой останется без стипендии».
Разогнали их тогда на почве Михалкова. Ставили знаменитое, про революцию, но по-своему. Барин муж лежал на сцене в кровати с сигарой в зубах, читал газету; фифа жена в пеньюаре и с папироской в отставленных пальцах смотрела в окно на семнадцатый год и радостно комментировала: «Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу... Рабочий тащит пулемет!» – и прыгала, и хлопала в ладоши. Муж, оторвавшись от газеты, весомо, сквозь сигару: «Сейчас он вступит в бой...». Закрыли как антисоветчину. Вот с тех пор и не виделись. Мужа-барина, кстати, играл Баранов, а фифу жену – второкурсница Леночка, классно смотрелась в пеньюаре, их тогда ещё и в сексе обвинили.
Читать дальше