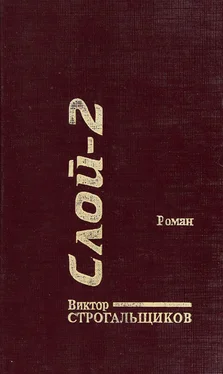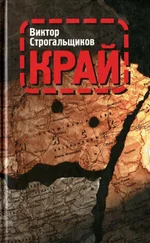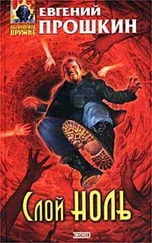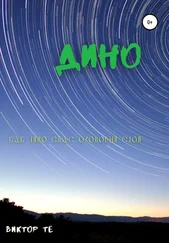Толик Обысков сильно зарос и оделся бичёвски, но Лузгин уже знал этот конспиративный маскировочный принцип – его было не провести. Он дернул плечами, роняя со спины рюкзак, и большими прыжками настиг Анатолия, и с ходу ударил его кулаками в лопатки. Толик рухнул на землю, проехал на брюхе и силился встать, но Лузгин уже пал ему на спину, прижал руки коленями и отчетливо бил кулаками в затылок то слева, то справа.
Его сдернули с Толика и отшвырнули к забору. Кто-то маленький пнул его в ребра и сразу в живот, ботинок вошел как в подушку, дыханья не стало, мир вокруг поплыл и расслоился. Ближним фоном скакал Эдуард, кого-то отталкивал и разводил, поднимал Лузгина и усаживал, страшные рожи наклонялись к нему и плевали словами, а он уже видел, что Толик исчез, растворился в окрестностях, и ему никогда не поймать его снова и никогда не вернуть свои деньги.
Рожи страшные вдруг подобрели, подняли Лузгина на ноги и прислонили к забору. Эдуард притащил из служебного входа ребристые ящики и принялся укладывать туда бутылки, как снаряды, страшные рожи ему помогали утаскивать полные ящики за угол. Потом Эдуард появился с пустыми рюкзаками под мышкой и полной авоськой в руке, взял Лузгина за куртку и повел обратно. Когда рука, тащившая бутылки, уставала, Эдуард менял Лузгина и авоську, перебегая то влево, то вправо. Так и дошли домой, где начался рассказ и удивления, но Лузгин сказал, что хочет спать, и его проводили в чулан с огорчением и сочувствием: крыша поехала у мужика, пусть отлежится – и в баню.
«Они все сговорились», – вдруг открылась Лузгину беспощадная истина. «Каталы» уже здесь, затаились в соседней темной комнате, поэтому его и пихают всё время в чулан, чтобы он их не видел, но убивать его сразу не станут, пока он не вспомнит что надо и не отдаст им сумку с деньгами, а потом его свяжут и положат на рельсы «студенты». О господи, «студенты», именно «студенты», я же всё придумал про «катал», когда вешал лапшу Комиссарову! Лузгин улыбнулся во тьме и заснул счастливый и спокойный.
В баню он пошел с соседом Генкой, жирным низкорослым мужичком с толстыми противными губами. Из парилки Лузгин бегал в моечную и пил ковшом из бочки холодную металлическую воду; толстый Генка ругался, что Лузгин студит баню своими побегами, никак не нагнать настоящего пара, сколько ни плещи на каменку.
– Ты правда в телевизоре работал? – спросил Генка, поддав пару и взбираясь на полок к забившемуся в угол Лузгину.
– Правда, – ответил Лузгин. – А чего, не верится? Вот погоди, я побреюсь после бани – сразу узнаешь. Надо с пьянкой завязывать, который день гудим как паровоз. Что, у Васьки всё время так?
– Как так?
– Ну как в трактире.
- Как баба от него ушла в прошлом году, так началось.
– Отчего ушла-то?
– От него.
– Я в смысле: почему?
– А хрен ее знает... Баба! У тебя что, бабы нет, раз спрашиваешь?
– Почему же, есть.
– Так не спрашивай... Денег много домой приносишь?
– Бывает по-разному. Пока не бедствуем.
– Пока будешь деньги носить – баба не уйдет.
– Нет, Гена, ты не совсем прав, – сказал Лузгин доверительно, как старший умный младшему. – Женщине от мужика нужны не только деньги...
– Правильно, – слишком быстро согласился Геннадий, оборвав Лузгина в самом начале красивой сентенции. – Нашей бабке – хрен да бабки. Одну дырку хреном затыкай, а другую бабками – будет любить как помешанная.
– Ты мыслишь о женщинах чересчур примитивно, Геннадий...
– Зато правильно. А вот ты разную херню по телевизору болтаешь, и всё неправда.
– Да ты меня не видел!
– Видел, видел... Клёвая у тебя работа: сел, потрепался – и в кассу.
– А ты вот попробуй сам: сядь там и потрепись.
– А чё пробовать? Меня не пустят, я же правду буду говорить.
– Ну хорошо, я согласен. Только скажи мне, пожалуйста, какую такую правду ты будешь говорить? Вот давай, расскажи мне ее сейчас; представь, что ты сидишь перед камерой в телестудии.
– Голый?
– Ну почему голый? Ты давай не откручивайся, тоже мне, Сократ деревенский. Вот так вот языком в бане молоть любой дурак сможет, а ты попробуй там, когда на тебя смотрят тысячи!
– Там что, такая комната большая?
– Какая, на хрен, комната! Я о телезрителях.
– Их же не видно.
– Но ты их себе представляешь.
– Зачем?
– Как зачем? Ты же должен понимать, должен чувствовать, для кого говоришь?
– Что говоришь?
– Ну, не важно, – сказал Лузгин и осекся. Толстый Геннадий вздохнул и сделал губами по-лошадиному. – Ты сам-то кто? – спросил Лузгин.
Читать дальше